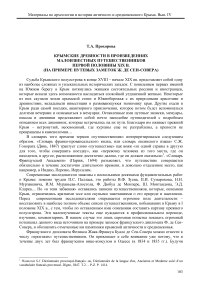Крымские древности в произведениях малоизвестных путешественников первой половины XIX в. (на примере путевых заметок Ж. де Сен-Совера)
Автор: Прохорова Т.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье изучен ранее не исследованный в историографии источник по истории Крыма -путевые заметки французского дипломата Ж. де Сен-Совера, опубликованные в Париже в 1837 году. Автор приходит к выводу, что благодаря упоминаемым в заметках древним и средневековым памятникам, впоследствии разграбленным или уничтоженным, они могут служить важным источником информации о древней и средневековой истории полуострова.
Крым, путешественник, средневековые памятники
Короткий адрес: https://sciup.org/14118055
IDR: 14118055
Текст научной статьи Крымские древности в произведениях малоизвестных путешественников первой половины XIX в. (на примере путевых заметок Ж. де Сен-Совера)
Судьба Крымского полуострова в конце XVIII – начале XIX вв. представляет собой одну из наиболее сложных и увлекательных исторических загадок. С появлением первых имений на Южном берегу в Крым потянулись экипажи состоятельных россиян и иностранцев, которые искали здесь возможности насладиться спокойной уединенной жизнью. Некоторые из них скупали земли крымской степи и Южнобережья с их природными красотами и древностями, вкладывали инвестиции в развивающуюся экономику края. Другие ехали в Крым ради самой поездки, авантюрного приключения, которое потом будет вспоминаться долгими вечерами и описываться в мемуарах. Оставленные ими путевые записки, мемуары, письма и дневники представляют собой нечто наподобие путеводителей с подробным описанием всех диковинок, которые встречались на их пути. Благодаря им оживает прежний Крым – нетронутый, неосвоенный, где курганы еще не разграблены, а крепости не превращены в каменоломни…
В словарях того времени термин «путешественник» интерпретировался следующим образом. «Словарь франко-провансальского языка, или словарь оксинского языка» С.Ж. Гонората (Динь, 1847) трактует слово «путешествие» как вояж «из одной страны в другую для того, чтобы совершить поездку», как «перевозку человека из того места, где он находится, в другое, расположенное достаточно далеко, где он должен оказаться»1. «Словарь Французской Академии» (Париж, 1694) разъясняет, что путешествие совершается обязательно в течение достаточно длительного времени, в довольно отдаленное место, как например, в Индию, Персию, Иерусалим.
Современные исследователи знакомы с несколькими десятками фундаментальных работ о Крыме: помимо трудов П.С. Палласа, это работы В.Ф. Зуева, П.И. Сумарокова, Н.Н. Мурзакевича, И.М. Муравьева-Апостола, Ф. Дюбуа де Монпере, Ш. Монтандона, Э.Д. Кларка… Но «в тени забвения» оставались записки путешественников, которые, описывая Крым, ограничились краткими эссе или скупыми замечаниями о его природе и населении. Перед современными исследователями открывается огромное поле деятельности – восстановить в наиболее полном объеме список путешественников, побывавших в Крыму в I половине XIX в., с тем, чтобы по оставленным ими описаниям составить картину прежнего полуострова. Эти малоизученные тексты еще нуждаются в профессиональном переводе, изучении, комментариях. В нашем случае это лишь скромная попытка показать огромный потенциал данного вида источников на примере записок французского дипломата Ф. де Сен-Совера, и обозначить отмеченные им памятники крымской античности и средневековья.
Французского дипломата Феликса Жака-Франсуа Буало де Сен-Совера можно отнести к числу «проезжих» путешественников. Он привлекает к себе внимание уже потому, что в течение двух лет был французским вице-консулом в Одессе (в 1834 и 1835 гг.). Будучи человеком увлеченным и неравнодушным к своей работе, он совершил путешествие в Крым по приглашению М.С. Воронцова в июле 1836 г.2
Сведений об интересующем нас персонаже сохранилось крайне мало. В родословных списках Франции он значится как один из четырех детей семейства Депрео де Сен-Совер – Гоффине3. Феликс Жак-Франсуа Депрео де Сен-Совер (1792-1876) родился в семье государственного служащего; его отец и дед были министрами иностранных дел, а два дяди из рода Петиньи – генеральным секретарем канцелярии Франции и главным клерком в департаменте иностранных дел при Людовике XVI. После обучения в Стрелковом Пританее и языковой школе для молодежи, он занимался второстепенной работой, сопровождал Латур-Mобурга в Константинополь в 1821 г. и занимал различные должности в консульствах в Турции и Греции до тех пор, пока не был назначен консулом в Одессе в 1834 г. Очередным местом его назначения стал остров Корфу в 1835 г., затем Алеппо в 1847 г. 5 мая 1848 г. он был отправлен в отставку4.
Поездка де Сен-Совера в 1836 г. осуществлялась в рамках обозрения восточных берегов Черного моря графом М.С. Воронцовым, которое он совершил по высочайшему повелению на военном корвете «Ифигения», в сопровождении парохода «Петр Великий»6. У французского дипломата был свой интерес: ехал он, собственно говоря, не в Крым, а в Черкесию. Это было связано с недавними военными событиями, приведшими к подписанию Адрианопольского договора 1829 г., по которому Османская империя уступила России свои права на часть восточного побережья Черного моря с правом свободно им руководить. Редкие новости, которые пропускала русская военная цензура, говорили о наличии здесь огромного конфликта, который по своим возможным последствиям выходил далеко за рамки черкесского региона. Поэтому европейские монархи возлагали огромные надежды на получение сведений от своих советников и консулов. Французское правительство особенно рассчитывало на свое дипломатическое представительство в Одессе, т.к. здесь еще свежа была помять о заслугах перед городом герцога Ришелье, и французы пользовались особым доверием, как горожан, так и властей региона.
Французский посол в России, А. де Барант, который, вероятно, ощутил щедрое гостеприимство и богатство генерал-губернатора во время своего краткого пребывания здесь в 1838 г., испытывал чувство свободы, неизвестное ему в других местах России, что в значительной степени было обусловлено характером М.С. Воронцова и открытостью его ума: «Правительство графа Воронцова вмешивается как можно меньше, а привычки военной дисциплины, эта гибкость без разбора обычно воспринимается в России как способ угодить государю. Граф Воронцов хотел сделать из Одессы торговый город, без крупных объектов армии и флота. Его полиция ничуть не назойливая. Мы живем в Одессе с какой-то беспечностью и безопасностью без слишком большого страха власти».
Ф. де Сен-Совер занимал должность консула в Одессе в течение тех двух лет, пока длился перерыв в исполнении этой должности Андре-Адольфом Шале, бывшим консулом в Одессе с 1821 по 1846 гг. Последний оставил следующие строки о положении в регионе: «Абсолютное молчание, которое господствует во всех случаях в Черкесии, приводит к тому, что мы узнаем намного позже, что происходит, и всегда в смутной манере. Там работают только военные или рабочие, которые осторожничают и не записывают ничего, что может поставить их под угрозу. Остается довольствоваться редкими слухами, которые сообщают самые противоречивые и неточные, в основном, сведения, они только исправляют друг друга, отчего мы знаем немного, не говоря уже о правде»7.
Ф. Депрео де Сен-Совер проявил себя как деятельный консул. Он интересовался положением в Одессе и Крыму после неурожая 1834 г., справлялся о состоянии более отдаленных провинций, посетил Молдову. Но приглашение М.С. Воронцова в морское путешествие вдоль берегов Российского Причерноморья могло дать ему возможность провести с борта парохода долгожданную «инспекцию» черкесских берегов и получить неотфильтрованную цензурой информацию о складывавшейся там ситуации. Отчет о поездке не был включен в файлы дипломатических архивов, но зато опубликован в Париже в 1837 г.89. Путешествие консула состоялось с 8 по 26 июля 1836 г., за год до путешествия А.Н. Демидова, В.А. Жуковского, императора Николая I Романова с наследником, будущим императором Александром II Николаевичем. Отправившись в Крым из Одессы на пароходе «Петр Великий», он уже передал свои консульские полномочия г-ну А. Шале.
Маршрут его проходил по морю через Каркинитский залив с портом Ак-Мечеть, Севастополь, Херсонес, мыс Фиолент с монастырем Святого Георгия, Балаклаву, о которой он говорит, что это «маленькая деревня, населенная греками», Ласпи, мыс Сарыч с высадкой в Ялте. Путешественник не счел нужным подробно описывать увиденные места, довольствуясь их обозрением издали. Из Ялты Сен-Совер имел возможность посетить Ай-Даниль, а также «деревни несчастных татар» – Массандру, Ардек (Артек – ред.), Симеиз, Алупку, Мисхор, Кореиз, обе Ореанды, Никиту и Юрзуф (Гурзуф – ред.). Подробные описания крымских местностей мы находим у консула во время его путешествия в Бахчисарай и Севастополь.
Выбрав особый путь – через горы – Сен-Совер со своим сопровождающим двинулись по горной тропинке, в течение двух часов созерцая лишь стену из серых скал, затем пересекли голое плато по пути к оврагу, где расположилась деревушка Коккоз, в которой они провели остаток вечера и ночь в доме татарского мурзы. Они продолжили свой нелегкий путь вновь по горной дороге, двигаясь в Бахчисарай, проехав более трех часов в окружении лишь гор и сухих облаков. Вскоре они прибыли к Тепе-Кермену – горе с множеством пещер, «служащих жилищами для народов, по очереди вторгавшихся в Крым». Через милю пути они прибыли в «Чифонт-Кале» (Чуфут-кале – ред.) – городок, где обитают евреи-караимы, превратившие свое поселение в крепость с помощью «каменных стен, закрытых двумя дверями» (воротами). Далее он посетил Иосафатову долину – место захоронения иудеев-караимов с множеством гробниц IV в., и следующий объект, который можно встретить на этой дороге по пути в Бахчисарай, – Успенский монастырь10.
Среди достопримечательностей Бахчисарая путешественник, в первую очередь, отметил Ханский дворец, в одной из комнат которого он расположился. Тем же вечером он совершил прогулку по апартаментам дворца в сопровождении начальника полиции Бахчисарая г-на Ставраки, восхищаясь не красотой и богатым убранством залов, а дипломатичностью своего спутника. Даже упоминание красивой легенды о любви Крым-Герая к Марии Потоцкой не изменило его настроения: «Я любовался молчаливыми и неодушевленными местами, где недавно шумела большая толпа, ожидая решения своего главы, который своей волей располагал жизнью трех или четырех тысяч человек и мог по своему желанию возглавить отряд из 30-40 тысяч всадников. Я видел двух русских солдат, которые охраняли двери, и предался размышлениям о нестабильности империй, которых время устраняет по очереди. Кто знает, сказал я себе, может, через несколько лет путешественник посетит Босфор и увидит орла России на стенах Сераля и найдет то же молчание и то же одиночество в его дворах, садах и комнатах, охраняемых несколькими русскими часовыми»11.
Описывая внутреннее убранство дворца, Сен-Совер отметил, что комнаты находятся в том же состоянии, что и при ханах, забыв упомянуть, что это – результат реставрации, проведенной в несколько этапов с 1783 по 1823 гг., а не прекрасной сохранности с ханских времен. В общих чертах описав комнаты Хан-сарая и его планировку, он не остановился на прочих достопримечательностях бывшей ханской столицы, направившись в Севастополь.
В Севастополь бывший французский консул отправился через Чуфут-Кале в повозке, остановившись сначала в Инкермане – крепости, которая «заслуживает внимание путешественников», датируя ее то ли концом Византийской империи, то ли генуэзским временем. В горе Инкермана, «которая с той же стороны возвышается над Черной речкой», он увидел «много раскопок, церковь, коридор, клетки, саркофаги, один из которых открыт и по-прежнему полон костей». Вскоре он подошел «к крепости, у которой есть небольшая ограда, составленная из стен и обрушившихся башен, построенных из песчаника и цемента. Вся часть крутой скалы с видом на юг, над которой она построена, и гора, расположенная при этой скале, заполнены комнатами и апартаментами, расположенными друг над другом и вырезанные в камне, которые служат домом для большого населения. Среди этих раскопок мы отметили одну, что включает церковь. Здесь можно увидеть еще следы портрета Богородицы и святых на камнях, которые формируют стены этой церкви»12.
Пробыв в Севастополе два дня и подробно описав гарнизон «одного из лучших портов в мире», Сен-Совер отправился вместе с другими участниками этого путешествия, а их насчитывалось 86 человек, в Ялту. Они «прошли последовательно Массандру, Никиту, Ай-Даниль, Юрсуф, обогнули мыс Аю-Дага (горы Медведь), имя которой было дано из-за конфигурации берегов, чья форма, как полагают, имеет некоторое сходство с животным, а на следующий день утром были в долине Судака». Описание Судакской крепости сводится к 2 строчкам: «мы видели на горе, расположенной у входа в эту долину на берегу моря, стены и башни, остатки генуэзской крепости». За Судаком путешественники прошли мимо мыса Меганом и Кара-даг Киасси, между которыми лежат небольшие долины Отуз и Коз, удаленные друг от друга на две-три мили. Днем того же дня «Петр Первый» с путешественниками на борту прибыл в Феодосию, которая очаровала их своими широкими мощеными улицами, домами, восходящими к генуэзской эпохе, превосходным портом и музеем13.
Вечером вояжеры продолжили свой путь в направлении Керчи. Пройдя мыс Такиль-Бурну с сигнальным огнем, «вершину по имени Камиш-Бурну, возле которого, считается, был город Нимфей», пароход вошел в бухту Амбелаки, затем обогнул мыс Ак-Бурну. После него «является Керченский залив, где мы бросили якорь на один час. Справа мы оставили песчаную отмель Таманского полуострова, на котором расположено несколько рыбацких хижин, и увидели перед собой на другой стороне бухты новые карантинные постройки на мысу, которые были городом Мирмикиумом»14.
В Керчи Сен-Совер осмотрел музей, расположенный «в магазине», пока новое здание для него еще не было построено, гору Митридат и «Место Митридата», отметив, что участок Пантикапея легко определить, просто копнув здесь землю – сразу же появляются обломки керамики и прочие предметы как свидетели прежней эпохи. Однако истинным богатством города, считает путешественник, являются многочисленные курганы, разбросанные в степи вокруг города. Описывая заслуги Ашика и Карейши в деле их исследования, он приходит в восторг от возможности осмотреть эти гробницы вместе с генерал-губернатором М.С. Воронцовым и даже вскрыть курган к юго-западу от горы Митридат в составе почетной экспедиции. Восторг вызвала также находка там погребальной урны с останками и предметами обихода. Совер высказал интересное предположение, что знатность умершего оценивается по диаметру кургана, а не по его высоте. Вместе с тем он наивно полагал, что курганы, в которых обнаруживают подзахоронения на периферических частях, на самом деле неграмотно возведены, и что все захоронения должны быть объединены в центральной части насыпи. В этой части своих записок автор впервые признается, что «Керченские древности так занимали мое внимание, что я не сказал хоть что-нибудь об этом городе»15.
На следующее утро Сен-Совер на пароходе был уже в бухте Анапы, навсегда попрощавшись с Крымом.
Изучение текста путешествия Депрео де Сен-Совера позволяет сделать заключение как минимум по двум вопросам. Во-первых, до сих пор еще остается не изученным пласт письменных источников, касающихся Крыма I половины XIX в., оставленных нам путешественниками этого периода времени. Они не принимались во внимание исследователями и краеведами по причине скудости излагаемых в них сведений о полуострове. Однако именно эти заметки, сделанные не то чтобы поверхностно, а скорее обобщенно, позволяют нам выяснить, каким видели Крым вояжеры, не искушенные историческими штудиями. Самый общий план Тавриды, который виделся приезжим особам, включал в себя древности Боспора, Херсонеса, генуэзские колонии и ханский дворец в Бахчисарае, которые непременно нужно было посетить. К себе привлекали также новые города и имения дворянской России, возведенные или отстроенные при новой власти – Севастополь, Ялта, Керчь, Массандра...
Во-вторых, каждый путешественник имеет особое видение, отличается особым стилем и манерой изложения, своеобразно описывая и оценивая увиденное. Благодаря этому Крым предстает как многогранный и многоликий мир, играет новыми красками в каждом новом описании. Депрео де Сен-Совер оставил особое описание, непохожее ни на одно из предыдущих. Он не был подробно знаком с историей нашего полуострова, поэтому, не искушается пространными размышлениями о былых эпохах и народах, максимально лаконично рисует нам образ Крыма – живыми и яркими определениями, эпитетами, что позволяет нам увидеть действительно главные его черты в I половине XIX в.
Отсюда вытекает третье заключение, наиболее важное для исследователей древности: в I половине XIX в. Крым был уникален благодаря видимым следам античности и средневековья, которые сохранились в архитектурном облике городов, руинах крепостей и погребальных сооружений. Познакомиться с их описаниями и сопоставить с современной картиной древностей Крыма – актуальная задача исследователей в деле сохранения культурного наследия полуострова.
Резюме
Список литературы Крымские древности в произведениях малоизвестных путешественников первой половины XIX в. (на примере путевых заметок Ж. де Сен-Совера)
- Honnorat S.J. Dictionnaire provençal-français: ou, Dictionnaire de la langue d'oc, Ancienne et Moderne suivi d’un vocabulaire francais provencal. Digne, 1847. T.2. -P-Z. P. 1414
- Haule S. «.. us et coutumes adoptees dans nos guerres d'Orient»: L'experience coloniale russe et l'expedition d'Alger//Cahiers du monde russe. 2004/1. Vol. 45. P. 314.
- Lesure M. La France et le Caucase a l’Époque de Chamil: a la lumier des dépêches des consuls francais/In: Cahiers du monde russe et sovietique. Vol. 19 №1-2. Janvier-Juin 1978. P. 5-65. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/cmr_0008-0160_1978_num_19_1_1306.
- de Heer M.C. Tutors (general tutors, figured bass methods and instruction books on tuning). 2004. 66 p. [Электронный ресурс]//Сайт «Muziekhangel Saul B. Groen». Режим доступа: http://www.sauldgroen.nl. P. 27.
- Веселовский Н.И. Военно-исторический очерк города Анапы. Петроград, 1914.
- Exursion en Crimee et sur les cotes du Caucase, au mois de juillet 1836, par le de St-Sauveur, consul de France. Paris, 1837. P. 14-16