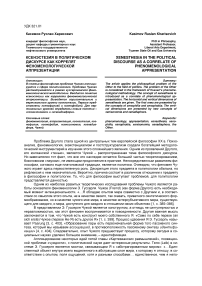Ксенэстезия в политическом дискурсе как коррелят феноменологической аппрезентации
Автор: Касимов Р.Х.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье философская проблема Чужого апплицируется к сфере политического. Проблема Чужого рассматривается в рамках гуссерлианской феноменологической методологии. Вводится понятие ксенэстезии как коррелята феноменологической аппрезентации. Выводятся горизонтальные и вертикальные уровни ксенэстезии. Первые представлены ксенофилией и ксенофобией. Для вертикальных уровней определены новые понятия -«ксенизономия» и «ксенадиафора».
Феноменология, аппрезентация, ксенэстезия, ксенофилия, ксенофобия, ксенизономия, ксенадиафора, чужой
Короткий адрес: https://sciup.org/14931782
IDR: 14931782 | УДК: 321.01
Текст научной статьи Ксенэстезия в политическом дискурсе как коррелят феноменологической аппрезентации
Проблема Другого стала одной из центральных тем европейской философии XX в. Психоанализ, феноменология, экзистенциализм и постструктурализм создали богатейший методологический инструментарий в изучении этого сложнейшего явления. Одним из проявлений Другого, его юнгианской «тенью», является Чужой – распространенная тема философского дискурса. Но замечателен тот факт, что все это наследие остается большей частью теоретизированием, бэконовским «пауком», не имеющим продолжения в практике. Непосредственным развитием философии, согласно еще платоновской традиции, является политика. Очевидно, что феномен Чужого играет здесь первостепенную роль. Дескрипция этого предмета в политологии обильна, но рефлексия о нем незначительна. Вероятно, причина состоит в различном отношении к предмету в философии и политологии. То, что для философии выступает проблемой, для политологии представляется данностью.
Одним из наиболее развитых теоретических исследований проблемы Чужого являются работы основателя феноменологии Э. Гуссерля. Чужое (Fremd) (как форма Другого) есть необходимый момент интенциональности. «…Я обладаю опытом мира совместно с Другими и, в соответствии со смыслом этого опыта, не в качестве своего, так сказать, приватного синтетического формообразования, но в качестве чужого мне мира, в качестве интерсубъективного мира, существующего для каждого, и мира, доступного для каждого в отношении своих объектов» [1, с. 385–386].
В представлении Э. Гуссерля Чужой является конструктом, а отнюдь не сингулярностью и неразложимостью, как этот феномен воспринимается в повседневности. Другая важная мысль заключается в том, что Чужой есть конструкт моего собственного Я. «Само по себе первое (an sich erste) Чужое (первое Не-Я) есть другое Я» [1, с. 399]. Процесс удвоения Я Э. Гуссерль называет Paarung [3, с. 403]. «Образование пары есть первоначальная форма того пассивного синтеза, который мы называем ассоциацией , в противоположность пассивному синтезу идентификации » [4, с. 404]. Следовательно, опыт Чужого предшествует процессу, которому сегодня в социальных науках уделено большое внимание, – идентификации.
Апплицирование некоторых идей пятой главы «Картезианских размышлений», посвященной проблеме «чуждости», к политической науке дает интересные результаты. Тело (Leib) в системе Э. Гуссерля является мостом, связывающим Я с «абстрагированным миром»: «…Един-ственный объект внутри моего выделенного в абстракции слоя мира, к которому я отношу, в соответствии с опытом, поля ощущений, хотя и разными способами… единственное, чем я непо- средственно распоряжаюсь …» [5, с. 390]. «Телесности» Э. Гуссерля в области политики соответствуют государство, нация, цивилизация. Именно эти «социально-исторические организмы» (в терминах Ю.И. Семенова) [6, с. 21–25] являются предельными основаниями коллективной политической субъективности. «Другая» нация, государство воспринимаются здесь как «чужое тело». Все феноменологические процедуры, которые Э. Гуссерль проводил по отношению к индивиду, приложимы и к коллективу.
Внешняя политика при таком подходе становится «согласованным опытом Чужого (Fremderfahrung)» [7, с. 385]. Невозможность непосредственного постижения Чужого приводит к тому, что Ego конструирует представление о нем как «опосредованную интенциональность». Чужой объективен лишь условно. «Чужие» нации, государства и цивилизации есть удвоения, конструкты нашего коллективного Я, так как их внутренняя жизнь, по выражению Э. Гуссерля «оборотная сторона», не может быть дана опыту. Здесь продолжением гуссерлианской концепции становится политологическая доктрина «воображаемого общества» Б. Андерсона [8].
Опыт Чужого дорационален: «…Трансцендентальная теория опыта Чужого (есть) проблема так называемого вчувствования (Einfullung)» [9, с. 386]. В таком случае феномен Чужого схватывается в процессе апперцепции: «Апперцепция – это не логический вывод, не акт мышления. Любая апперцепция, благодаря которой мы с первого взгляда воспринимаем и постигаем преданные предметы…, тотчас понимаем их смысл вместе с его горизонтами, интенционально отсылает обратно к некоторому первичному установлению (Urstiftung), в котором предмет, имеющий подобный смысл, был впервые конституирован» [10, с. 402–403]. Чужой в политическом измерении есть категория социальной перцепции.
Способ формирования Чужого как «соприсутствия» носит у Э. Гуссерля название «аппре-зентация». Аппрезентация есть апперцепция по аналогии [11, с. 401]. «…Любой повседневный опыт скрывает в себе аналогизирующий перенос некоего первоначально установленного предметного смысла на новый случай – в своем антиципирующем постижении предмета как предмета, обладающего похожим смыслом» [12, с. 403]. Развивая мысль Э. Гуссерля, можно предположить, что формами политической аппрезентации служат различные формы «ксенэстезии».
Ксенэстезия есть аксиологически окрашенное коллективное восприятие «чуждых» культур. Ксенэстезия возможна в следующих формах: ксенофобия, ксенофилия, ксенизономия, ксенадиа-фора. Ксенэстезия строится иерархически – вертикально и горизонтально. «Социально-политическое тело» способно воспринимать «чужое тело» как онтологически и аксиологически низшее по отношению к себе, и тогда имеет место ксенофобия. Возможно восприятие Чужого как высшего относительно себя. В этом случае имеет место ксенофилия. Если Чужой воспринимается как равный себе – это ксенизономия. И наконец, когда «социально-политические тела» сосуществуют без активного взаимодействия, возникает ситуация ксенадиафоры.
Примером форм ксенэстезии в современном политическом пространстве может послужить отношение части наших граждан к англичанам, таджикам, белорусам и аргентинцам. Последний пример демонстрирует ксенадиафору – безотносительность к Чужому. Русский культурно-политический континуум почти не соприкасается с латиноамериканским (конечно, только в обыденности), поэтому образ аргентинца аппрезентируется как нечто экзотическое. Экзотика – это «чуждость» без враждебности и ощущения опасности, с некоторой долей любопытства, дублирование (Paarung) своего Ego с атрибутами, у него отсутствующими, но в воображении возможными. Аргентинец не «хуже» и не «лучше» меня – он другой (alter-Ego). Экзотика – это всегда отсутствие непосредственного опыта. Об этом говорит само слово: «экзо-» значит «внешний».
В белорусе же нет никакой экзотики. Наоборот, образ белоруса не просто присутствует в опыте, это привычный, «обыденный» образ. Кроме того, он кинэстетически горизонтален. Сконструированный образ белоруса равен моему Ego. Но это alter-Ego не несет в себе отсутствующие у моего Я атрибуты, этот образ имеет другую структуру, другое соотношение элементов Ego.
Образ англичанина у многих ассоциируется с образом «цивилизованного человека». Это качество одновременно отрицается у своего Ego, при том что «цивилизованность» признается качеством субстанциональным. Аппрезентация полного, совершенного alter-Ego из неполного, ущербного Я – проявление ксенофилии. В обыденном языке политических дискуссий подобное отношение приобрело название «либерализм» (что терминологически неверно).
И наконец, наиболее популярный в современном политическом дискурсе феномен – ксенофобия. Презрительное отношение многих сограждан к образу таджика – яркое проявление Zeitgeist. Ксенофобия есть результат неполноценной аппрезентации моего Ego. Если «цивилизованный европеец» есть аппрезентация лучших качеств моего Я, то «дикий азиат» («Эхо Москвы» предпочитает слово «монгол») – худших качеств. Подобное отношение (особенно упомянутыми «либералами») часто называют «национализмом» (что тем более неверно).
Подводя итоги сказанному выше, отметим, что ксенэстезия как дорефлективный, то есть трудный для изучения, феномен требует серьезного рассмотрения различными методами и дисциплинами и феноменологический этюд, представленный этой статьей, не претендует на полноту, являясь не более чем экстраполяцией одной идеи. Однако гуссерлианская идея примор-диальности Ego к вторичным конструктам имеет любопытные перспективы в практическом плане.
Ссылки:
-
1. Гуссерль Э. Избранные работы : пер. с нем. М., 2005. 464 с.
-
2. Там же. С.399.
-
3. Там же. С.403.
-
4. Там же. С.404.
-
5. Там же. С.390.
-
6. Семенов Ю.И. Философия истории. М., 2003. 776 с.
-
7. Гуссерль Э. Указ. соч. С. 385.
-
8. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма : пер. с англ. М., 2001. 288 с.
-
9. Гуссерль Э. Указ. соч. С. 386.
-
10. Там же. С. 402–403.
-
11. Там же. С.401.
-
12. Там же. С.403.
Список литературы Ксенэстезия в политическом дискурсе как коррелят феноменологической аппрезентации
- Гуссерль Э. Избранные работы: пер. с нем. М., 2005. 464 с
- Семенов Ю.И. Философия истории. М., 2003. 776 с.
- Гуссерль Э. Указ. соч. С. 385.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма: пер. с англ. М., 2001. 288 с.
- Гуссерль Э. Указ. соч. С. 386.