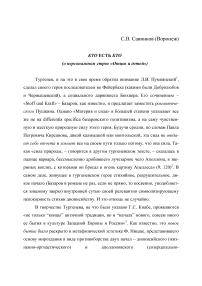Кто есть кто (о персонажном строе «Отцов и детей»)
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 2 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Сюжет, персонажный строй, иван сергеевич тургенев, отцы и дети
Короткий адрес: https://sciup.org/14914011
IDR: 14914011
Текст статьи Кто есть кто (о персонажном строе «Отцов и детей»)
В творчестве Тургенева, на что было указано Г.С. Кнабе, проявляются «не только “концы” античной традиции, но и “начала” нового, совсем иного ее бытия в культуре Западной Европы и России»3. Как известно, это новое бытие было раскрыто в метафизической эстетике Ф. Ницше, представившего основу мироздания в виде противоборства двух начал – дионисийского (жизненно-оргиастического) и аполлоновского (созерцательно- упорядочивающего). В «Отцах и детях» это исконное противоборство получило своеобразное преломление. В новых условиях Аполлон предстал в облике дворянина Павла Петровича Кирсанова, а Дионис – разночинца Базарова.
Павел Кирсанов с его апологией аристократизма и с его опорой на личность («…человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится»; 6, 242) подобен Аполлону – богу родовой аристократии и индивидуации. Базаров с его плебейским происхождением, которым он гордится («Мой дед землю пахал», – с надменною гордостию отвечал Базаров»; 6, 244), и с его неприятием всего того, что основывается на principium individua-tionis («Люди , что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой»; 6, 277) – Дионису, божеству земледельческого природного круга и врагу каких бы то ни было пределов и границ. Павла Кирсанова больше всего и раздражает в Базарове его заносчивость, самопревозно-шение и чрезмерность – все то, что, по словам Ф. Ницше, в представлении аполлонического грека сближало дионисийское начало с титаническим и вар-варским4.
В портретных характеристиках Павла Кирсанова вместе с аполлониче-ской холодной скульптурной ясностью, красотой и чистотой форм присутствует и та устремленность кверху, к небу, которая говорит о его принадлежности к клановой, – «сальерианской», – аристократии, с презрением относящейся ко всему тому, что связано с низменностью земного: «…лицо его… необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной…. Весь облик Аркадиева… сохранил… стремление вверх, прочь от земли…» (6, 209). Однако в этой устремленности кверху, кроме выражения аристократической обособленности, нет больше ничего: «Павел Петрович… поднял глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его… мизантропическая душа...» (6, 252). Холодная ото всего обособленность делает Павла Петровича ко всему равнодушным: природа для него и не храм, и не мастерская, она для него, как и он сам (если вспомнить тютчевские строки, о которых, конечно, помнил и Тургенев), – «слепок» и «бездушный лик». Конечно, такое, чем-то напоминающее посмертную маску, желчное и без морщин лицо сорокапятилетнего Павла Кирсанова придает его аполлоническому облику очевидную пародийность. Павел Петрович – не тот Аполлон, которого запечатлело греческое искусство как бога, исполненного юношеской красоты, грации и сил, а Аполлон – постаревший и окаменевший, превратившийся в неподвижную статую.
В отличие от устремленного кверху Павла Кирсанова, Базаров, как и Дионис, связан с земным низом («Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть»; 6, 327). На эту связь указывают и базаровские черты. В описании его лица («Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету»; 6, 200) есть что-то напоминающее непременного спутника Диониса – Сатира, лесного божества с козлиной внешностью. Правда, старик Прокофьич, – «аристократ» не хуже Павла Петровича, – «уверял, что он с своими бакенбардами – настоящая свинья в кусте» (6, 238).
Знаменитый идейный спор между Павлом Кирсановым и Базаровым – это спор между Аполлоном и Дионисом. Павел Петрович, как и положено Аполлону, стоит на страже закона, истории, традиции, достоинства, он отстаивает сохранность обычая и формы. Базаров же, как Дионис, отвергает все то что имеет какие бы то ни было узаконенные рамки и границы, он апологет непрерывного обновления, всякий раз сметающего все прочь и начинающего все сначала. Как человеку земному, Базарову не чуждо и все земное, начиная от жуков и болотных лягушек, акации и сирени и кончая людьми, с которыми ему хочется возиться. «Хочется с людьми возиться, – признается он Аркадию, – хоть ругать их, да возиться с ними» (6, 324). В отличие от эстета Павла Кирсанова, Базаров – вандал. И вандализм его объясняется не только позитивистской идеологией, но еще и дионисийским устремлением Базарова отстоять права низменной, бесформенной, но живой природы перед возвышающейся над ней совершенной, но мертвой красотой.
В том, как Тургеневым подается противостояние Базарова и Павла Кирсанова, угадывается и пушкинский «след». В тираде Кирсанова по поводу бесплодности современных художников и Рафаэле можно усмотреть аллюзию на знаменитую реплику Сальери – «Мне не смешно, когда маляр негодный / Мне пачкает Мадону Рафаэля…»5 – и, разумеется, на соответствующую сцену трагедии в целом. В семантический горизонт этой аллюзии попадают не только персонажи Пушкина (жизнененавистник Сальери – Павел Кирсанов; жизнелюб Моцарт – Базаров), но еще и мотив «рафаэлевской» мадонны, который исподволь привносит в тургеневский текст важные обертоны. Контуры «рафаэлевской» сцены из «Моцарта и «Сальери» можно обнаружить, к примеру, в сцене подглядывания Павла Петровича за Базаровым и Фенечкой. На глазах Павла Петровича Базаров совершает акт вандализма. Подобно пушкинскому негодному маляру, он грязнит образ его, Павла Кирсанова, «рафаэлевской» мадонны, но «пачкает» его не кистью, а своим поцелуем. Если сказать точнее, Базаров наносит урон образу той женщины (в чертах Фенечки Павел Петрович усматривает внешнее сходство с княгиней Р.), сохранению неприкосновенной чистоты которого Кирсанов посвятил свою жизнь так же, как Сальери – искусству: «Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться...» (6, 357)6.
И в этом «не потерплю» просматривается еще одно присущее Аполлону свойство – его подверженность тирании. Так или иначе, домашняя деспотия Кирсанова затрагивает всех, начиная от Николая Петровича Кирсанова и кончая Фенечкой, трепещущей перед «неподвижным зорким лицом и руками в карманах» Павла Петровича, который «неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем сьюте» («Так тебя холодом и обдаст»; 6, 341), и интуитивно отгораживающей от него своего ребенка. Да и сам мальчик на дежурное к нему со стороны дяди внимание реагирует соответствующим образом: он смотрит в другую сторону. К Базарову, напротив, – как и мать, так и дитя тянутся без всякого сопротивления и испуга. Для эстета Кирсанова Фенечка – мадонна, но, как это ни противоестественно, – мадонна без ребенка на руках. Для Базарова же Фенечка прежде всего «молодая красивая мать» (6, 230).
* * *
История любовной страсти Павла Кирсанова и история Базарова по отношению друг к другу зеркально симметричны.
Княгиня Р., предмет страсти Павла Петровича Кирсанова, красотой не отличалась. Анна Сергеевна Одинцова – само воплощение представлений о классической красоте. Павла Кирсанова властно притягивает к княгине демоническая неправильность ее существования, резкие и необъяснимые переходы от одной крайности к другой и непостижимость ее загадочного взгляда: «Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели… Все ее поведение представляло ряд несообразностей»; ее взгляд, «быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния, – загадочный взгляд» (6, 222). Павел Петрович, как Аполлон, любит глазами – чувственность и телесное обладание никогда не смогут его удовлетворить и встать вровень с интеллектуальным созерцанием.
Кирсанова притягивает к княгине Р. даже не она сама как женщина, а ее «непонятный, бессмысленный, но обаятельный образ », который «слишком глубоко внедрился в его душу» (6, 223). Базарова влечет к Одинцовой иное – самодостаточное совершенство ее женского телесного естества, ее «классические строгие черты», загадка ее спокойной, плавнотекущей размеренной жизни. Базаров любит не глазами, а всей мощью своей дионисийской страсти. Иными словами, апполонического Павла Петровича притягивает к себе безобразная тайна женщины-Сфинкса, а дионисийского Базарова – античная, аполлоническая, «соразмерная и сообразная», «вся чистая и холодная» красота античной статуи. Для Кирсанова разгадать загадку княгини Р. состоит в проникновении в то запредельное, что скрывает ее загадочный взгляд. Для Базарова познать женщину статуарной красоты – значит обладать ею.
Так же, как Павел Петрович и Базаров, княгиня Р. и Анна Сергеевна Одинцова представляют противоположности, с которыми сопрягаются и два антогонистичных представления о природе. С образом княгини Р. корреспондирует концепции природы как чужого, страшного, дисгармоничного, сатанинского явления. С Анной Сергеевной – восходящее к античности понимание природы как устроенного и гармонизированного космоса. Первое у Тургенева соотносится, условно говоря, с Тютчевым. Второе – с Пушкиным. Перечеркнутый княгиней на подаренном Павлом Кирсановым перстне сфинкс – знак, ключом к расшифровке которого могли бы стать тютчевские строки 1869 года: «Природа – сфинкс. И тем она верней / Своим искусом губит человека, / Что, может статься, никакой от века / Загадки нет и не было у ней»7. По-пушкински сияющая вечной красой Анна Сергеевна, дойдя до известной черты в отношениях с Базаровым, «заставила заглянуть себя за нее – и увидала за ней даже не бездну, а пустоту… или безобразие» (6, 300). Пустота – эмблематическое выражение жизни и той, и другой. И княгиня Р., и Одинцова одинаково бесплодны. Одна – потому, что не знает границ, другая, напротив, – потому, что поместила свою жизнь в строго определенные границами рамки. И той, и другой противостоит Фенечка с младенцем на руках. Она, как и мадонна на полотне Рафаэля, символизирует гармонично уравновешенную полноту жизни в воссоединении небесного и земного.
-
1 Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 421.
-
2 Цит. по: Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968, с указанием тома и страниц в тексте.
-
3 Кнабе Г.С. Русская античность. М., 2000. С. 181.
-
4 См.: Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 68–70.
-
5 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 19 т. Т. 7. М., 1995. С. 126.
-
6 И не зря, по всей видимости, Павел Петрович будет доживать свои дни в Дрездене – месте, где хранится «Сикстинская мадонна» Рафаэля.
-
7 Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 228.
Список литературы Кто есть кто (о персонажном строе «Отцов и детей»)
- Пумпянский Л.В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 421.
- Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960-1968.
- Кнабе Г.С. Русская античность. М., 2000. С. 181.
- Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 68-70.
- Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 19 т. Т. 7. М., 1995. С. 126.
- Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 228.