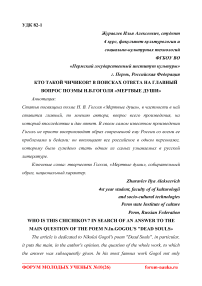Кто такой Чичиков? В поисках ответа на главный вопрос поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души"
Автор: Журавлев И.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 10 (26), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души», в частности в ней ставится главный, по мнению автора, вопрос всего произведения, на который впоследствии и дан ответ. В своем самом известном произведении Гоголь не просто воспроизводит образ современной ему России со всеми ее проблемами и бедами: он воплощает все российское в одном персонаже, которому было суждено стать одним из самых узнаваемых в русской литературе.
Творчество гоголя, "мертвые души", собирательный образ, национальный характер
Короткий адрес: https://sciup.org/140280088
IDR: 140280088
Текст научной статьи Кто такой Чичиков? В поисках ответа на главный вопрос поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души"
Исторически так сложилось, что множество национальных литератур в процессе своего развития от столетия к столетию, от одного исторического события к последующему, создавало вокруг себя определенный образ, приобретало собственное неповторимое лицо. Каждая из них в течение длительного времени приобретало свои особенности, рождала свой собственный стиль. Даже те литературы, что в начале своего пути опирались на своих более «взрослых» предшественников, постепенно отказывались от навеянных им стандартов либо умели имеющуюся литературную канву трансформировать в нечто новое и самобытное.
Русская литература, одна из древнейших, также имеет свои неповторимые черты, в совокупности складывающиеся в тот самый скелет, который впоследствии обрастает плотью из индивидуального стиля отдельно взятого автора. Непохожесть авторского почерка русских романистов и поэтов и делает русскую литературу столь многообразной и богатой на громкие имена. Но, тем не менее, каждый русский писатель, вне зависимости от гения, таланта или отношения к творчеству своих современников и предшественников, так или иначе, обращается к тем особенностям, которые так ярко характеризуют нашу литературную или философскую мысль.
К данным чертам можно отнести и многократное обращение к христианской мысли, и мощный нравственный стержень, и статика повествования, и, конечно же, языковые особенности. Однако в этом тексте упомянутые особенности мы не затронем, ввиду того, что нас интересуют два иных, гораздо менее заметных принципа.
Для начала мы назовем один из них, так как второй принцип, во-первых, на данном этапе нас мало интересует, а во-вторых, может оказаться вами забыт при дальнейшем чтении.
Итак, первый принцип заключается в том, что русская литература на протяжении всего своего существования постоянно пытается задавать читателю вопросы. И речь идет о вопросах не риторических, не об извечных. Русская литература не ограничивается вопросом что хорошо, а что плохо, точнее не ставит себя в столь широкие рамки: каждое русское литературное произведение существует в своем отдельном тесном пространстве. Каждый писатель, задает читателю конкретный вопрос, на который жаждет услышать ответ. Другое дело, получают ли они эти ответы? Как правило - нет.
Задаваемые читателю вопросы, как правило, являются ключом к пониманию конкретного текста. «Тварь я дрожащая или право имею?» -обращается к читателю Раскольников со страниц «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. «А судьи кто?» - ораторствует Чацкий в своем знаменитом монологе из пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума». Фраза, которая, к слову, превратилась в крылатую.
Иногда русские авторы обращались к читателю напрямую через заголовок произведения, как А. И. Герцен («Кто виноват?») или Н. Г. Чернышевский («Что делать?»).
Мы видим, что русская литература, как, наверное, и русская мысль в целом, это творчество поиска; это постоянная попытка найти ответ на возникающие в сознании масс вопросы, и, как правило, бесполезная, как попытка Сизифа затащить камень на вершину горы.
Тут мы и подбираемся к теме нашего разговора: главный вопрос поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
В самом начале создания своего самого знаменитого произведения Гоголь, судя по всему, не до конца осознавал, какая ответственность легла на его плечи, как только он принялся за письмо. Изначально «Мертвые души»
задумывались как комическое произведение, о чем свидетельствует письмо Гоголя своему, как он сам считал, творческому наставнику – А. С. Пушкину: «Начал писать Мёртвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон» [Ю.В. Манн 1984: 7]. Однако постепенно сюжетная задумка начала приобретать все больше и больше трагических черт, а сам Гоголь уже осознает, каким невероятным потенциалом обладает его еще недописанное произведение. Проходит чуть больше года с начала работы на романом, и в 1836 году он пишет Жуковскому: «У меня в комнате сделалось тепло, и я принялся за «Мертвых Душ», которых было начал в Петербурге. Все начатое переделал я вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше; серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь; вещь, которая вынесет мое имя» [2, C. 5].
Отобразить Россию такой, какой она на самом деле является – вот в чем заключалась задача. Вскрыть все ее раны, показать всю трагедию, не без доли здорового комизма, и самое главное – отобразить тот самый загадочный русский характер. Здесь на сцену и выходит Чичиков.
Павел Иванович Чичиков – бывший чиновник, отставной коллежский советник, а ныне – махинатор, зарабатывающий свое состояние путем скупки умерших крестьян, значащихся живыми на бумаге. С момента его появления русская литература задается новым вопросом: кто же такой Чичиков? Ответить на этот вопрос стараются персонажи «Мертвых душ», выдвигая самые невероятные версии: почтмейстер города N предполагает, что Чичиков может быть Капитаном Копейкиным – солдатом, воевавшим в Отечественной войне 1812 года; иные и вовсе считают Чичикова самим Наполеоном. Но окончательно ответить на этот вопрос никто так и не смог.
Действительно, персонаж получился более чем загадочным: о жизни Чичикова до появления в городе N неизвестно ничего, вплоть до заключительной главы поэмы. Гоголь не спешит наделять своего персонажа какими-либо особенными чертами. Чичиков самый неприметный человек, и если бы кто-нибудь постарался его описать, то, скорее всего, попал бы в тупик. Этот господин был « не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтоб стар, однако ж и не так чтобы слишком молод » [Н.Гоголь 2018: 5]. Подобная характеристика может говорить лишь об одном: Чичиков - это, самый что ни на есть, собирательный образ.
Хотел ли Гоголь сказать, что Чичиков - это отражение каждого русского человека? Это маловероятно. Чичиков - это даже не сатирическая калька на государственных деятелей того времени. Чичиков - это целое явление, к глубокому сожалению, поразившее Россию первой половины 19 века. Чичиков - это объективная реальность того времени. Процветание коррупции, денежные махинации, падение нравов и омертвление души - все это «чичиковщина».
Здесь мы можем вернуться ко второму принципу русской литературы – это создание временно́го архетипа. Каждое общественное или политическое потрясение порождало своего героя, находившего себе место на страницах литературных произведений. У Пушкина был Евгений Онегин – собирательный образ дворянской молодежи; Лермонтов изобразил героя своего времени - Печорина, ставшего олицетворением эпохи «лишних людей»; из-под пера Тургенева вышли Рудин и Базаров - представители поколения, призванного пробудить в обществе новые силы и жажду действий; Гончаров породил Обломова, чье имя стало нарицательным и олицетворяло борьбу против лености и застоя.
Так и Гоголь создает свой архетип - корыстного человека, приобретателя, чья душа постепенно умирает, но готовится к исцелению, которое так и не случилось, так как третий том «Мертвых душ» так и не был написан (именно в третьем томе, по имеющимся сведениям автор собирался «спасти» своего героя).
Чем же на самом деле является «чичковщина», и какова его природа? Ответ на этот вопрос дает сам автор в заключительной 11 главе поэмы.
Чичиков это вовсе не порождение запада, ворвавшееся в Россию подобно Наполеону (но, в отличие от французского полководца, все же покорившее Русскую землю), и вовсе не жертва последствий войны, как Капитан Копейкин. Ведь разница между Чичиковым и Копейкиным в том, что последний является придатком наплевательского отношения со стороны своего государства. Характер же Чичикова был с детства взращен родителями, окружением и царившими в то время нравами и мировоззрением. Свой первый жизненный урок Павлуша Чичиков получил еще в детстве: « С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку, эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой » [Н.Гоголь 2018: 318].
«Чичиковщина» - это продукт русского характера, результат общественных потрясений, следствие существовавшего в то время общественного образа мысли.
Уже давно нет Наполеона, нет Российской Империи, не окончены «Мертвые души», а значит, и нет ответа на еще один вопрос: можно ли победить Чичикова? Глядя на современные реалии, напрашивается два вывода: либо ответ еще не найден… либо Чичиков непобедим. Хочется верить, что это не так.
Список литературы Кто такой Чичиков? В поисках ответа на главный вопрос поэмы Н.В.Гоголя "Мертвые души"
- Ю.В. Манн 1984 - Манн Ю. В. В поисках живой души: «Мёртвые души». Писатель - критик - читатель. Москва: Книга, 1984. (Судьбы книг). С. 416.
- e-Reading.mobi: [Электронный ресурс] Книга: Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники. https://e-reading.mobi
- Н.Гоголь 2018 - Гоголь Н. Мертвые души: поэма / Николай Гоголь. - СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 352.