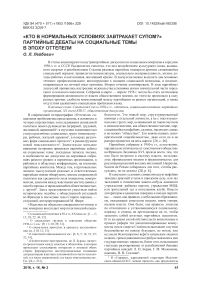"Кто в нормальных условиях завтракает супом?" Партийные дебаты на социальные темы в эпоху оттепели
Бесплатный доступ
В статье анализируются внутрипартийные дискуссии по социальным вопросам в середине 1950-х гг. в СССР. Выдвигается гипотеза, что под воздействием культурного шока, вызванного смертью и разоблачением Сталина рядовые партийцы подвергли критике сложившийся социальный порядок: привилегии номенклатуры, социальную несправедливость, низкие доходы рабочих и колхозников, жилищный кризис. В дискуссии можно выделить два основных течения: профессиональное, апеллирующее к знаниям социальной медицины, и низовое, опирающееся на личный опыт критиков. Второе течение доминировало. В ходе партийных дискуссий проявились настроение недовольства условиями жизни значительной части городского и сельского населения. Собрания в марте - апреле 1956 г. могли бы стать источником формирования автономного от власти общественного мнения, но этого не произошло в силу разных причин: слабости коммуникаций между партийцами из разных организаций, а также отсутствия адекватного социальным проблемам языка.
Оветский союз в 1950-е гг., оттепель, социальная политика, партийные организации, xx съезд кпсс, общественная дискуссия
Короткий адрес: https://sciup.org/147151114
IDR: 147151114 | УДК: 94 | DOI: 10.14529/ssh160306
Текст научной статьи "Кто в нормальных условиях завтракает супом?" Партийные дебаты на социальные темы в эпоху оттепели
В современной историографии «Оттепели» социальная проблематика представлена, в основном, в четырех перспективах: в исследованиях социальной политики нового руководства (аграрной, трудовой, жилищной, церковной)1; в изучении изменившегося статуса различных социальных групп (номенклатуры, рабочих, жителей деревни)2; в поисках различных форм социального протеста3; в реконструкции новой повседневности4. Значительно меньшее внимание историков привлекли партийные дебаты на социальные темы: докладные записки, письма, в особенности же дискуссии на партийных собраниях разного уровня: в первичных организациях, в районных и областных конференциях, на пленумах партийных комитетов. Между тем, в протокольных записях выступлений рядовых и ответственных партийцев можно обнаружить генезис современной политики как срединного поля инициатив, компромиссов, диалогов между властными институциями, с одной стороны, и зарождающейся общественностью, с другой5. Здесь представляется уместным найти историческое подобие с общественной ситуацией во Франции в последние годы Старого порядка, — ситуацией, интерпретированной М. Фюре:
«Реальное же общество совершенно по-иному и вне монархии воссоздает мир политической социа- бельности. Это новый мир, структурированный начиная с отдельной личности, а не с институциональных групп, мир, основанный на таком смутном и неясном явлении, как общественное мнение, мир, создающийся в кофейнях, салонах, масонских ложах и во всяких ’’обществах”. Его можно назвать демократической социабельностью, даже если он и не распространяется на весь народ» [26, с. 46].
Партийное собрание в 1950-е гг., естественно, кардинально отличалось от «умственного общества» во Франции Людовика XVI, прежде всего, тем, что оно было встроено в систему власти, пользовалось официальным языком и предназначалось для реализации решений высших инстанций. Напротив, Societe de Pensee собиралось для того, «чтобы рассуждать, но не делать» [28, p. 6].
В советских условиях символическую кофейню замещал красный уголок в заводском цеху, или зал заседаний в помещении какого-нибудь казенного учреждения: райкома партии, управления МВД; или зрительный зал в поселковом клубе. Вместо литераторов и адвокатов говорили и писали партийцы — люди, как правило, с небольшим образованием, овладевшие советским языком, иначе говоря, языком власти. Они были, как правило, лояльны по отношению к установившемуся социальному порядку и отнюдь не претендовали на то, чтобы заменить собой штатных партийных идеологов. В то же время силой обстоятельств вовлеченные в процесс реформ эти дисциплинированные коммунисты после смерти Сталина испытывали смутное беспокойство по поводу будущего, не могли, или не умели безоговорочно верить низеньким людям в шляпах, громоздившимся на трибуне мавзолея в дни государственных торжеств, более того, испытывали гнетущее разочарование от разоблачений бывших партийных вождей: Л. П. Берия, Г. М. Маленкова, наконец, И. В. Сталина6.
Перелистывая протоколы партийных собраний в ранние «оттепельные» годы, замечаешь у участников неодолимую тягу к резонерству, стремление проверить на здравый смысл властные инициативы и предложить собственные оценки и суждения по поводу решений руководства. Более того, в них можно обнаружить и попытки инициировать обсуждение тем, не предусмотренных повесткой дня, и вылазки за официально утвержденные языковые границы. Особенно это заметно при обсуждении социальных проблем.
Необходимо отдать должное партийному руководству. Люди, взявшие в свои руки высшую власть в стране в марте 1953 г., обратили внимание на бытовую сторону советской жизни: состояние городской среды, жилищные условия рабочих и служащих, продовольственное снабжение населения в разных регионах страны. Секретари областных партийных комитетов были вынуждены отчитываться не только об исполнении государственных планов, но и об уровне жизни трудящихся. Так, секретарь Молотов-ского обкома КПСС Ф. М. Прасс в декабре 1953 г. докладывал в ЦК: «Низки натуральные и денежные доходы колхозов, мало выдается хлеба, других продуктов и денег на трудодни колхозникам. Выдано на 1 трудодень:
|
1940 |
1950 |
1952 |
||
|
хлеба |
кг |
1,7 |
1,1 |
1,03 |
|
денег |
коп |
49 |
24 |
36 |
Средняя обеспеченность жилой площадью в промышленных городах области не более 4,5 кв. метра на человека, а по отдельным предприятиям — 3 кв. метра. При этом 453,0 тыс. кв. метров, или около 13%, составляет неблагоустроенное, большей частью, ветхое жилье барачного типа. <…> Из 24 городов водопроводы имеются в 16, из которых в 7 городах водопроводные сети охватывают только отдельные кварталы. Канализация сделана в 8 городах. Резко отстает жилищно-коммунальное хозяйство города Молотова. В целом по городу жилая площадь на одного человека не превышает 4 кв. м.
Не изжиты факты позорных явлений, когда в торговой сети отсутствуют товары первой необходимости (хлеб, соль, спички, керосин и др.), имеющиеся в необходимом количестве на базах. Особенно неблагополучно в области с торговлей картофелем и овощами, в продаже их почти нет. Культура советской торговли находится на низком уровне»1.
сельского райисполкома, узнавший о подлинных причинах смещения Председателя Совета Министров, «… на следующий день поехал на поезде, изрядно выпивший, с порывами броситься с кулаками, кричал: “Ах, он такой-сякой Маленков”, но его придерживали неизвестные пассажиры». Еловиков — Первову. Справка о некоторых фактах недостойного поведения председателя Уинско-го райисполкома тов. Батракова И. Е. 1955. Без даты // ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 22. Д. 145. Л. 9.
Изменилась и карательная политика. В середине тридцатых годов разговоры о тяжких условиях жизни расценивались органами как контрреволюционная агитация2; двадцать лет спустя на собраниях разрешалось невозбранно говорить о плохих жилищных условиях, о продовольственном дефиците, об отсутствии должной заботы о людях труда3.
Следует учесть, что в официальном партийном нарративе социальных проблем в советском обществе не существовало. Для их описания действовали разные языковые форма: в годы террора: «вредительство», «вражеская выходка», «троцкистская провокация»; в годы нормализации писали и говорили «о пережитках капитализма», или о его «родимых пятнах», в лучшем случае, «о временных трудностях», или «недоработках». В партийной печати эпохи оттепели доминировала пропаганда успехов, призванная формировать у населения социальный оптимизм; она оперировала иными устойчивыми словосочетаниями: «великие достижения», «грандиозные свершения», умеряемые в какой-то мере «отдельными недостатками». Партийные идеологи, характеризуя состояния дел в советском обществе, имитировали умонастроения советской молодежи, точнее, «молодых кадров», о которых незадолго до смерти писал Сталин: «Они ошеломлены колоссальными достижениями Советской власти, им кружит голову необычайные успехи советского строя…» [24, с.25]. Сталинскую иронию пропагандисты пропустили мимо ушей.
Сложилась парадоксальная языковая ситуация. Советское общество в соответствии со своими доктринальными основаниями было призвано решить социальный вопрос прежней эпохи: добиться действительного социального равенства, обеспечить личностное развитие всем и каждому, уничтожить нищету и преодолеть бедность, устранить социальные привилегии, в общем, снять социальные противоречия, свойственные раннему капитализму. В то же время в нем не сложился язык, при помощи которого можно бы адекватно представить, как на практике реализовывался этот амбициозный социалистический проект. Марксистская терминология: «социальные противоречия», «столкновение социальных интересов» и пр., в сталинскую эпоху была признана недействительной для описания советского строя. Противоречия были заменены «существенными различиями», стирающимися по мере продвижения к коммунизму; социальные интересы отдельных групп растворились в «морально-политическом единстве всего советского народа»; становление универсальной социализированной личности было признано свершившимся фактом1. Вплоть до институализации советской социологии в 1970-е гг. в обществе не было языка для описания социальных проблем и, стало быть, для их признания.
Рядовым партийцам приходилось прибегать к языку улицы, чтобы изложить свое виденье «отдельных недостатков», или «ошибок, допускаемых некоторыми руководителями.
В то же время люди, интеллигентного труда, мобилизованные для решения хозяйственных задач, прибегали к полузабытой традиции земских описаний крестьянского и мастерового быта, — традиций, сложившихся на рубеже XIX—XX веков в России.
В фондах Пермского государственного архива новейшей истории (ПермГАНИ) отложились материалы, позволяющие воспроизвести содержание и характер партийных дебатов на социальные темы, — дебатов, выходящих за границы, предписанные партийными решениями и соответствующим регламентом.
Обратимся к двум событиям, отстоящим друг от друга по времени, по составу участников, по характеру действия. Речь пойдет в первом случае об обследовании санитарного состояния Кочевского района Коми-пермяцкого округа, проведенного в ноябре-декабре месяцах 1953 года преподавателями и студентами Молотовского мединститута. По решению сентябрьского пленума ЦК заводы и вузы должны были взять шефство над сельскохозяйственными предприятиями[См.: 19, с. 22—24]. Руководство мединститута по разнарядке обкома отправила бригаду сотрудников в отдаленную местность.
Результаты обследования содержались в докладной записке без названия, отправленной на имя только что назначенного секретаря обкома партии А.И. Стру-ева2. Подписана она была исполняющим обязанности директора института, профессором С. И. Гусевым, состояла из 5 страниц машинописи, испещренных большими восклицательными знаками и размашистой сердитой резолюцией секретаря обкома3.
Во втором случае, рассмотрим серию вопросов на социальные темы, заданные коммунистами и т.н. «:бес-партийным активом» во время обсуждения доклада Н. С. Хрущева XX съезду КПСС «О культе личности и его последствиях» в марте — апреле 1956 года.
Вопросы и реплики слушателей доклада Н. С. Хрущева собраны в «сводках» и «информациях», составленных работниками партийного аппарата и отправленных в соответствующие отделы городских комитетов, в обком и в ЦК. В делах обкома можно обнаружить многочисленные копии этих документов, часто без даты, не подписанные (иной раз подпись впечатана, но собственноручного росчерка пером рядом с ней нет) [См.: 16].
Участников прений и составителей доклада о санитарном состоянии отдаленного района сближает, главным образом, то, что все они вышли за рамки предписанные циркулярами, регламентами и советской традицией.
Работники медицинского института увидели и записали то, что видеть и записывать отнюдь не полагалось: реальное состояние жизненных условий колхозников и сезонных рабочих в леспромхозах. Обследование района проводили, в основном, студенты, которых полагалось воспитывать, прежде всего, советскими патриотами. Об этом постоянно говорилось на партийных собраниях, на заседаниях ученого совета, даже на митингах4.
Естественно, студенты — медики видели вокруг себя нищету, грязь, запустение. «Город имени В. М. Молотова имеет очень убогий вид…», — писал секретарю обкома местный житель5. Прохожие на улицах выглядели совсем уж непривлекательно6. И сами студенты проживали в общежитиях, в которых «нет воды, много крыс, простыни не сти-раются»1. Тем не менее, в выступлениях на семинарах по марксизму-ленинизму, тем более, в речах на собраниях, в любых публичных высказываниях такого рода наблюдения считались неприемлемыми. Студентов приучали видеть действительность иначе — через призму кинокартин, иллюстраций к журналу «Огонек», книжек современных писателей: праздничной, нарядной, благоустроенной, цветущей; колхозы — передовыми, а колхозников — культурными и зажиточными.
Сейчас уже не установить, как в среде медицинской профессуры родилась идея начать шефскую работу с подворного обследования всех жителей района по правилам, казалось бы, давно забытой земской статистики, увязывающей состояние здоровья людей с условиями их быта и хозяйственной активностью. Тем не менее, отправленные в Кочевский район бригады информацию такого рода собрали. В докладной записке, отправленной в обком КПСС, читаем:
«Урожайность зерновых культур в среднем по району около 5 ц с га. В 1952 г. колхозники получили на трудодень в среднем около 1 кг зерна. В ряде колхозов меньше одного килограмма. <…> В 1953 году колхозники получили на трудодень в ряде колхозов значительно меньше, чем в прошлом году. Хорошее питание выявлено только у 29% семей колхозников; удовлетворительное питание у 50,5% семей; плохое питание, совершенно недостаточное как в качественном, так и в количественном отношении выявлено у 20,5%. Большинство колхозников выпекают хлеб с различными примесями совершенно неудовлетворительного качества. 46% всех жилищ колхозников содержится грязно, кровати имеются только в 41,5% жилищ. Население очень плохо обеспечено одеждой и обувью по сезону. Подавляющее большинство сельского населения ходит в лаптях. Около 40% сельского населения не имеет нательного белья. У 11% семей колхозников даже нет мыла. Только 3,3% сельского населения чистит зубы. Индивидуальных полотенец нет, а в 3% семей полотенец совсем нет. У 11% населения выявлена завшивленность. У 87% дворов колхозников нет совсем уборных, помойных ям нет нигде. В бане население моется систематически (не реже одного раза в 7—10 дней). Моется в бане 89,5% населения. Индивидуальные бани у 54,7% колхозников.
Очень плохо обстоят дела со снабжением населения необходимыми продуктами питания и промышленными товарами. В момент проведения работы в магазинах района (как в райцентре, так и в селах и деревнях) не было сахара, керосина. В магазинах почти никогда не бывает кроватей, хотя население в них очень нуждается. В районе зато находит место сбыт недоброкачественных продуктов. В 1953 году в район были завезены в большом количестве конфеты «подушечка», выпущенные второй кондитерской фабрикой г. Молотова. Эти конфеты представляют из себя сплошную липкую массу коричневого цвета.
Надо отметить, что в Кочевском районе, рас- положенном в 89 км от г. Кудымкара, нет рынка. Население не имеет возможности продавать сельскохозяйственную продукцию (картофель, молоко) и испытывает большую нужду в деньгах. <…> В районе очень слабо ведется работа по электрификации и радиофикации колхозов. Электричество есть только в 7 колхозах… В 6 колхозах в отдельных домах есть радиоприемники. <…>
Во многих колхозах чрезвычайно высок процент неграмотных и малограмотных колхозников. <…>
Бригадой выявлена высокая заболеваемость среди колхозников. Общее количество выявленных больных 1945. Первое место среди выявленных заболеваний составляет трахома — 529 случаев, второе место занимают заболевания сердца — 163 случая, третье — хронические заболевания легких — 126 случаев. <…> Выявлено также 46 случаев выпадений матки, 67 случаев зоба, 87 случаев туберкулеза легких, 23 случая хронической дизентерии и др. Совместно с местными органами здравоохранения составлен план оздоровления больных колхозников»2.
Эту докладную записку отличает от иных «справок о бытовом устройстве…» ее инициативный характер. Обком не требовал от парторганизации медицинского института провести подворную перепись населения, выяснить уровень доходов колхозников, оценить их качество жизни. Тем не менее, это было сделано и сделано профессионально. Студенты-медики получили урок реалистического взгляда на окружающий мир без идеологических линз. Но не только. Авторы «записки» пользовались языком, пригодным исключительно для исторических очерков о помещичьем гнете и нужде крестьян при царской власти. Они же применили его для описания колхозной жизни.
Обкому партии была предъявлена картина деревни, мало изменившейся после крестьянской реформы 1861 г., только еще более обедневшей.
-
А . И. Струев с таким изображением советской действительности согласиться не смог. Медиков строго предупредили и запретили впредь заниматься подобными изысканиями.
В то же время центральная партийная пресса все чаще указывала областным руководителям, что те плохо заботятся о вверенном им населении. В том же 1954 г. в Молотовский обком переправили из «Комсомольской правды» неопубликованную статью специального корреспондента о положении молодых рабочих, по разнарядке распределенных в г. Кизел: «Минуло лишь полтора месяца, а половина новичков уже покинула стройку из-за отвратительных условий. Все прибывшие из горнопромышленных школ и школ ФЗО зачисляются на так называемое интернатное питание. Вместо денег им вручают в счет зарплаты голубые абонементы ОРСа, напоминающие давно забытые продовольственные карточки. По талонам этих абонементов новичкам выдают в столовой ОРСа и завтрак, и ужин. Прежде кормили три раза в день, а теперь только дважды: в шесть утра и в шесть вечера. Так удобнее работникам столовой. Об их удобстве позаботились, а о том, что молодежь, занятая физическим трудом, да еще на свежем воздухе, оставлена без обеда и после раннего завтрака вынуждена целых двенадцать часов ждать ужина, — об этом не подумали.
В 6 часов утра в столовой дают жидкий невкусный суп. Кто в нормальных условиях завтракает супом? Но здесь выбора нет — всем суп»1. Показательна реакция Молотовского обкома: следует признать, что «многие молодые рабочие имеют низкие заработки», не соблюдают трудовую дисциплину: «Из 392 чел. молодых рабочих за 8 месяцев 231 чел. совершили прогулы», вот только «осужденная в статье абонементная система питания молодых рабочий является необходимой, т.к. молодые рабочие имеют низкие заработки и не могут рационально их использовать»2. В этой мало примечательной справке очень четко выражена позиция партийного руководства: его подопечные — народ несмышленый, дай ему деньги, пропьет и останется голодным. Нерешенные бытовые проблемы еще есть, но решать их можно и нужно административными методами без участия тех, кого они непосредственно затрагивают.
У рядовых партийцев было иное мнение. Многие из них не хотели ждать, когда областные или союзные инстанции позовут их обсуждать программу жилищного строительства, или перспективы развития советской торговли. Они пользовались любым случаем — удобным, или совсем не удобным, чтобы напомнить руководству о насущных вопросах быта: жилищной тесноте, дефиците продуктов и, самое частое, социальной несправедливости, сообщить о своих личных проблемах, общих бедах и разочарованиях. Особенно ярко настроения такого рода проявились во время обсуждения доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» в весенние месяцы 1956 г.
Доклад этот имел характер, преимущественно, исторический. В нем была обозначена альтернатива «Краткому курсу истории ВКП(б)» — точнее его последним главам и недописанным частям3: повествовалось о поступках людей, а не о закономерностях общественного развития; абсолютизировался личностный фактор в истории в противовес старому тезису об определяющей роли народных масс; криминальные сюжеты потеснили тему грандиозных побед и величественных достижений. Если от слушателей доклада и ожидали каких-либо вопросов и суждений, то верней всего на исторические темы. И такие вопросы последовали:
«Кто поставил Сталина вместо Ленина, и где они те товарищи?»4.
«Вам, может быть, что известно, о внезапной смерти в 1933 г жены Сталина — Аллилуевой?»5.
«Который упоминался в докладе Кабаков, Иван Дмитриевич, или другой?»6.
Впрочем, и на такие вопросы секретари парторганизаций, читавшие несколько часов подряд текст доклада Н.С. Хрущева, тоже не могли отвечать, просто, ничего об этом не знали и никаких дополнительных материалов не получили.
Наряду с вопросами исторического характера и обмена репликами по поводу недавнего прошлого на партийных собраниях спонтанно возникали иные темы, чаще всего, речь заходила о социальной несправедливости.
«Жены работников облисполкома ездят в кафе на «ЗИМ», официантки грузят пироги в машину. Допустимо ли это. Есть рабочие, имеющие семью до 7 чел., получают зарплату 350 руб., а некоторые другие работники получают неоправданно большие оклады»7.
«Не процветает ли культ личности в распределе -нии жилплощади, чем не больше руководитель, тем больше квартира, а в бараках не живет ни один»8.
«Почему существуют до сих пор закрытые ларьки?»9.
«За руководителями отдельных предприятий укрепляется кличка «хозяин», а эти «хозяева» часто забывают, что в своей работе они ответственны перед государством и коллективом. Это относится, в частности, к тов. Лысенко — Молотовгор-строй. Нужно воспитывать чувство скромности у руководителей»10.
Ментальный строй рядовых партийцев, озабоченных социальной несправедливостью, можно представить по записи выступления М.Н. Колпакова на собрании коммунистов завода им. Молотова11. В фонде обкома партии хранится текст объемом в
-
5 Информация о проведении партсобраний по итогам XX съезда КПСС и задачах партийных организаций. г. Боровск. 31 марта 1956 // ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 23. Д. 115. Л. 3.
-
6 Информация. г. Александровск. 26 03.1956 // Перм-ГАНИ. Ф. 105. Оп. 23. Д. 114. Л. 91.
-
7 Информация о проведении партийных собраний по итогам XX съезда КПСС. г. Молотов. Апрель 1956. Без даты // ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 665. Л. 42.
-
8 Вопросы, заданные на проходивших партийных собраниях по итогам XX съезда КПСС. г. Молотов. Без даты. Апрель 1956 г. // ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 665. Л. 49.
-
9 Вопросы, заданные при ознакомлении с докладом тов. Хрущева «О культе личности и его последствиях». Г. Молотов. Без подписи. Без даты. 1956 // ПермГАНИ. Ф. 1. Оп. 45. Д. 665. Л. 30.
-
10 Справка о проведении партийных собраний по итогам XX съезда КПСС. г. Молотов. Без даты. Апрель 1956 // ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 23. Д. 114. Л. 73.
13 машинописных листов обычного формата1. На первой странице выполненная карандашом надпись: «Срочно! 2 экземпляра». Возможно, что это правленая стенограмма; возможно, заранее подготовленная рукопись, переданная после выступления секретарю партийного собранию, а уже позже затребованная в обком.
Начинается выступление патетически — цитатой из В. Маяковского: «Партия — это миллионов плечи, друг к другу прижатые туго». Далее следует противопоставление: Ленин — Сталину, или большевистская скромность — культу личности2. Основная часть выступления М. Н. Колпакова, встревожившего обкомовских работников, посвящена местным темам. Он говорил о неоправданных привилегиях областных и городских начальников, их социальном высокомерии, подчеркнутой недемократичности, неумении или нежелании прислушиваться к мнению рядовых коммунистов. Говорил язвительно и резко. Вот характерный пассаж из его выступления, посвященный персональным автомобилям.
«Ну раз уж я начал говорить о чуткости и внимательности, о скромности руководящих работников и их персональных машинах, так уж я сразу скажу и о том, как наш директор завода тов. Лебедев в своей персональной машине, прекрасном 6-местном лимузине, всегда ездит только один, а для нужд завода он свою машину не дает. Можно привести немало фактов того, как тов. Лебедев ведет себя высокомерно по отношению к людям, к коммунистам. <…>
А надо вам сказать, товарищи, что это машина дорогая и много тратит бензина — 22 литра на 100 км пробега. Так почему в такой машине едет только один ответственный работник? Ведь она очень дорого обходится государству. Я бы внес предложение: для всех ответственных руководящих товарищей, которые имеют такие прекрасные машины и ездят только одни в них, а таких у нас, товарищи, очень много, иметь другие машины. Я бы предложил нашим конструкторам, создателям автомобилей, разработать новую конструкцию экономичного двухместного автомобиля для ответственных руководящих товарищей марки ОРТ, для него и для шофера, т.к. ведь практически эти дорогие в эксплуатации машины используются не по назначению, в их всегда ездит только один такой ответственный товарищ. Так пусть это обойдется значительно дешевле для нашего государства. <…>
Или можно привести такой факт, когда, как сказала врач тов. Мерзлякова, обратились к директору, чтобы увезти больного рабочего из завода срочно в больницу, так машину директора не дали, видите ли, после рабочего надо делать санитарную обработку директорской машины. <…> Я хорошо знаю многие факты, когда директорская машина днем во время работы часто бывает около разных магазинов, и в ней директорская теща ездит днем на подсобное хозяйство за свежими помидорами»3.
Про персональные машины М. Н. Колпаков говорил много, упрекал секретаря горкома в том, что тот распорядился привезти участников Мотовилихинского восстания 1905 г. на торжественное собрание в декабре «при температуре около 30 градусов мороза» в нетопленном автобусе. «Старые заслуженные ветераны революции замерзли, пока их собирали по городу и везли в холодном автобусе, и остались они очень возмущенные таким отношением к ним. А ведь тов. Коноплев приехал на собрание в клуб в своей теплой 6-местной машине «ЗИМ», и один он был в машине. Куда было лучше, если бы он свою машину, да и «ЗИМы» обкома партии были бы отданы для перевозки этих старых большевиков с их больными и старыми женами, а уж сами-то руководители приехали бы на каких-нибудь машинах — и ничего бы с ними не случилось»4.
Судя по выступлению М. Н. Колпакова и репликам других партийцев персональные автомобили были для них зримым символом социального неравенства, зримым атрибутом неоправданного превосходства начальствующих лиц над трудящимися5.
В высказываниях такого рода обнаруживается глубинная интенция к социальной эгалитарности, свойственная советской низовой культуре6. Через год после съезда во время политической кампании по разоблачению «антипартийной группы» рабочие и служащие обличали попавших в опалу сталинских соратников за их тягу к роскоши, вельможный образ жизни: «Тов. Осетров — Эти деятели имели свои дачи, свои поезда и самолеты. Каганович в прошлом году остановил Кавказскую дорогу на 18 часов, чтобы проехать с Южной дачи. Все это говорит, что они забыли нужды народа»1. А чтобы руководящие товарищи нужд не забывали, предлагалось вновь установить партийный максимум заработной платы и воспользоваться китайским опытом2. «Учащийся горного техникума коммунист Есипов сказал: « считаю, что нужно заимствовать у Китайской Народной Республики их метод привлечения к физическому труду руководящих работ -ников, чтобы руководители общались с массами, сами вместе с ними работали, чтобы они не отрывались от масс, от народа. Я уверен, что в наших учреждениях есть еще не мало таких бюрократов, которые оторвались от масс и мешают нашему движению вперед»3.
Иначе говоря, критика культа личности транс -формировалось в массовом сознании в критику социального неравенства, ранговых различий в доступе к товарам и услугам, всего того, что спустя двадцать лет вернется в политическую жизнь борьбой с привилегиями.
Кроме того, рядовые партийцы замечали и неодо- порче отдельных руководящих наших работников является чрезмерно их высокая заработная плата. Например, министры, их заместители, секретари обкомов, работники отдельных горсоветов и облисполкомов. Надо чрезмерно высокую заработную плату этих групп (Л. 90) работников привести в надлежащее состояние, это повысит авторитет этих работников перед народом, придаст им большую скромность — скромность работников ленинского типа. Они больше будут знать нужды народа, не будут отрываться от народа. Одновременно пора Совету Министров СССР и ЦК партии ускорить решение вопроса о приведении заработной платы всех категорий трудящихся в соответствующий порядок, существующая система заработной платы, по существу, давно требует пересмотра и даже сковывает рост производительных сил в нашем хозяйстве. Информация о ходе ознакомления с докладом тов. Хрущева «О культе личности и его последствиях» в партийных организациях г. Молотова. Без даты // ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 23. Д. 115. Л. 90—91.
брительно высказывались о разрыве коммуникаций между властью и «простыми людьми». М. Н. Колпаков говорил об этом прямо и резко: начальники не умеют ни говорить с людьми, ни слушать их: «У меня осталось неприятное впечатление от такой бестактности в обращении с людьми при ведении бюро тов. Коноплевым, секретарем горкома.
Не спросив у присутствующих, приглашенных на бюро товарищей, есть ли желающие выступить, он стал стучать карандашом по столу и говорить: “Хватит, будем кончать на этом”. Ведь даже из простого чувства вежливости и тактичности тов. Коноплев должен был спросить у приглашенных, есть ли желающие еще выступить». А желающие были. Из членов бюро выступил тов. Мельков, но во время его выступления т. Коноплев вышел в другую комнату. Мне это очень не понравилось. Знаете ли какое неприятное чувство осталось у меня после этого. Ведь тов. Коноплев был делегатом XX съезда партии, лично слушал доклад тов. Хрущева, а в своем поведении, по-моему, он не перестроился, и как-то все получилось на бюро не так как надо, под каким-то его нажимом»4.
О приказном стиле партийных и советских начальников говорили и другие выступающие. На собрании можно было услышать нелицеприятное мнение о работнике окружкома партии, «который от критики пыжится»5. Больших начальников обвиняли в том, что те «…не бывают среди рабочих, город видят из окна автомашины, а поэтому не знают, что делается в торговой сети, с транспортом. В магазинах не бывают, сами ничего не покупают, что т. т. Никольский (председатель облисполкома), Струев, Коноплев (секретарь ГК КПСС) ходят в театры только по пригласительным билетам. Секретарь Сталинского РК КПСС т. Коротков мало общается с народом»6.
Может, по той причине, что разговаривать с ним не умеют. Снова процитирую выступление М. Н. Колпакова: «Ведь просто становится не по себе, что, неужели наши руководящие работники, грамотные люди, не могут говорить с народом вот так просто, глядя в зал, в глаза народу и говорить с ним простым и ясным языком, советоваться с ним, как к этому призывал нас Ленин. А что у нас получается? Вот выйдет оратор на трибуну сухим, бесстрастным языком читает свое выступление — шпаргалку и от этого выступления не остается никакого впечатления у присутствующих»7.
На собраниях критиковали сложившийся социальный порядок с его жесткой иерархией, ранговыми привилегиями, громадной дистанцией, отделяющей номенклатурных работников союзного и областного звена от рядовых граждан. На партийном языке, к тому времени разученном, такая ситуация обнималась формулой «отрыв отдельных руководителей от народа»1. К слову, на этот разрыв критики списывали перебои с продуктами, грязь на улицах, скверные жилищные условия2.
Спустя три года после инициативы молотовских медиков у них обнаружился последователь. Журналист Б. Н. Назаровский, в недавнем прошлом член бюро обкома, ответственный редактор газеты «Звезда», а в 1956 г. литературный работник областного книжного издательства напомнил, что «многие статистические и экономические материалы для печати являются секретными. В нашей печати не публикуется экономическая сторона жизни страны, области, города. Какова себестоимость одного кирпича на заводе «Красный строитель», на Оверятском, или на Калининском заводах? В чем причина разницы в их себестоимости? Что стоит квадратный метр жилой площади в домах разных типов у разных строительных организаций? Какой тип жилища и у какого стройтреста оказывается наиболее экономичным? Во что обходится в трудоднях литр молока в разных колхозах? На эти вопросы наша печать ответить не может из-за чрезмерной цензуры, отсутствия опубликованных экономических, статистических данных. Вместе с тем в дореволюционной Перми регулярно публиковались статистические данные Пермского губернского земства»3. Сейчас таких данных нет — и потому сложно проводить экономическую учебу. Говоря о ней Б. Н. Назаровский, явно лукавил. Статистические сборники Пермского губернского земства использовались по-иному, для анализа хозяйственной эффективности тех или иных институций, для выявления первоочередных проблем, в конечном счете, для того, чтобы т.н.
«третий элемент»4 мог владеть информацией, позволяющей претендовать на соучастие в управлении хотя бы в виде сотрудничества с губернской администрацией.
Впрочем, предложение Б. Н. Назаровского не было услышано и поддержано. Партийцы вряд ли поняли, о чем идет речь.
Дебаты по социальным вопросам, стихийно развернувшиеся в партийных собраниях в марте — апреле 1956 г., не имели практических результатов. Они были локализованы внутри производственных и территориальных ячеек. Печать хранила молчание. Партийные инстанции исполняли скромную роль регистраторов — не более. Было бы неверным предположить, что в ходе дискуссии сложилось, или хотя бы складывалось независимое общественное мнение как особый социальный институт. К тому же суровые критики социального порядка зачастую действовали под влиянием аффекта, вызванного разоблачением главной символической фигуры советского строя. В тесном помещении красного уголка могла возникнуть иллюзия нарождающейся на глазах свободы: Сталина нет — и все позволено. Но собрание заканчивалось. Люди возвращались к своим делам — в мир повседневных забот и устойчивых социальных институтов, постепенно вытесняя из памяти и вопросы без ответов, и собственные злые замечания. Партийное руководство страны учло уроки нескольких недель свободы и на тридцать лет вперед закрыло советские дискуссионные клубы — аналог парижских кофеен времен Людовика XVI. Взамен предложило горожанам обустраивать частную жизнь, обустраивать себе комфортные зоны обитания, завязывать социальные связи, обеспечивающие доступ к дефицитным товарам и услугам, то есть дополнить ранговую систему привилегий частным инструментарием: умением заводить нужные знакомства, совершать сложные обменные операции, конвертировать статусные преимущества в материальные блага.
Остается не решенным вопрос, что же подвигло лояльных советских граждан, к тому времени в достаточной степени адаптировавшихся к социалистическому строю, высказывать по его адресу здравые, но отнюдь не легитимные суждения, вспоминать о земстве, пользоваться смесью языков — партийного, бытового, даже старорежимного. Самый простой ответ заключается в том, что от культурного шока, вызванного сначала смертью, а затем и развенчанием Сталина, идеологические шоры ослабли, люди вышли из-под влияния «искусственного медиума» — системы образов советской жизни, созданных школой, литературой и пропагандой [См.: 27, S. 50]. В таком случае, приходится обращаться к здравому смыслу — порождению малой публичности: к коллективному опыту родных, соседей, товарищей по работе. На коммунальной кухне, в курилках, в долгих очередях, в спальнях на 10—12 человек в домах отдыха советские граждане вместе собирали картину советского мира для бытового использования, собирали из пазлов, которые предлагала вездесущая пропаганда, но только окрашивали их собственными красками и по-своему комбинировали. Они знали, что колхозный строй является самым передовым, но знали также, что в известных им колхозах царят бесхозяйственность и нищета, что рабочий человек есть главная опора государства, но на заводе с ним могут обращаться как угодно бесцеремонно1, что в стране торжествует социалистическая законность, но посадить могут ни за что2. Советские граждане к тому времени понимали, что предъявлять такого рода картину в публичном месте — на собрании, в вечерней школе, во время политинформаций — ни в коем случае нельзя. Она не то что бы была неправильной, но подходила только для домашнего пользования, точнее, в круге малой публичности — для своих. На этих разрозненных картинках, ни в коем случае не собираемых в общую панораму, нельзя было выработать common sense, автономный по отношению к власти.
Партийные дебаты по социальной проблематике советского общества его отсутствие показали. Критики сложившегося положения дел апеллировали либо к доктринальными основаниям советской идеологии (в ее сталинском изводе), либо к индивидуальному, отнюдь не к коллективному опыту. Робкие попытки опереться на земскую традицию были нейтрализованы. Социальный протест выродился в личные обиды.
В такой ситуации верховная власть получила свободу выбора в социальной политике, по собственному усмотрению определяя цели, средства и график ее реализации.
Список литературы "Кто в нормальных условиях завтракает супом?" Партийные дебаты на социальные темы в эпоху оттепели
- 1956. Незамеченный термидор. Очерки провинциального быта/отв. ред. А. В. Чащухин. -Пермь: Изд-во ПГАИК, 2012.
- Алкоголь в России: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (Иваново, 28-29 октября 2011)/отв. ред. Н. В. Демьяненко. -Иваново, 2012.
- Андреенков, С. Н. Аграрные преобразования в Западной Сибири в 1953-1964 гг./С. Н. Андреенков; Российская академия наук, Сибирское отделение. -Новосибирск: Ин-т истории, 2007.
- Белоногов, Ю. Г. Эволюция советской модели экономики 1950-1960-х годов в отечественной историографии/Ю. Г. Белоногов//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура, история, философия, право. -2014. -№ 1. -С. 35-41.
- Бордаз Р. Новый экономический курс Советского Союза. (1953-1960)/Р. Бордаз; пер. с фр. -М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
- Вайль, П. 60-е. Мир советского человека/П. Вайцль, А. Генис. -М.: Новое литературное обозрение, 1996.
- Виниченко, И. В. Советская повседневность 50-х -середины 60-х гг. XX века: женский костюм в моделях одежды и бытовой практике/И. В. Виниченко. -Омск, 2010.
- Кабацков, А. Н. Игра на два поля. К формированию политических коммуникаций в современной России/А. Н. Кабацков А. С. Кимерлинг О. Л. Лейбович//Ученые записки гуманитарного факультета. -Вып. 8. -Пермь: Изд-во ПГТУ, 2004.
- Калинина, О. Н. Партийные и советские руководители Западной Сибири (1946-1964 гг.): опыт исторического анализа/О. Н. Калинина. -Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2013.
- Козлов, В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 -начало 1980-х гг.)/В. А. Козлов. -Изд. 3-е, испр. и доп. -М.: РОССПЭН, 2009.
- Коэн, С. Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина/С. Коэн; пер. с англ. -М.: Новый хронограф: АИРО-XXI, 2009. -144 с.
- Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982/отв. ред. В. А. Козлов. -М.: Материк, 2005.
- «Краткий курс истории ВКП(б)». Текст и его история: в 2 ч./сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. -М.: Политическая энциклопедия, 2014.
- Лебина, Н. Cоветская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю/Н. Лебина. -М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- Лейбович, О. Л. Реформа и модернизация в 1953 -1964 гг./О. Л. Лейбович. Пермь: Изд-во ПГУ, 1993.
- Лейбович, О. Л. Отзывы на доклад Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» в Молотовской области. Март -апрель 1956 г./О. Л. Лейбович//Вестник архивиста. -2010. -№ 4. -С.193-204; 2011. -№ 1. С. 254-269.
- М. Н. Колпаков: //Вечерняя Пермь. -1996. -21 июня.
- Ноув, А. Новая стратегия коммунизма/А. Ноув; пер. с англ. -М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960.
- О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства: постановление пленума ЦК КПСС. 7 сентября 1953//Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам: сб. документов. -Т. 4. 1953-1957 гг. -М.: Госполитиздат, 1958. -С. 22-24.
- Перцев, В. А. Материальное положение населения РСФСР (вторая половина 1950-х -1980-е годы) на материалах областей Центрального Черноземья/В. А. Перцев. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013.
- Повседневная жизнь при социализме. Немецкие и российские подходы/Отв. ред. Я. Берендс. -М.: Политическая энциклопедия, 2015.
- После Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской и постсоветской истории/отв. ред. А. Сорокин. -М.: Политическая энциклопедия, 2016 (в печати).
- Сталин, И. В. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). 10 марта 1939 года/И. В. Сталин. Сочинения. -Т. 14. -М.: Писатель, 1997.
- Сталин, И. В. Экономические проблемы социализма в СССР/И. В. Сталин. -М.: Госполитиздат, 1952.
- Фокин, А. А. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками» и антиалкогольная кампания 1960-х годов/А. Фокин//Вестник Челябинского государственного университета. Сер. История. -Вып. 60. -2014. -№ 12 (341). -С. 109-115.
- Фюре, Ф. Постижение французской революции/Ф. Фюре. -СПб.: Инапресс, 1998.
- Cassirer, E. Versuch ueber den Menschen. Einfuerung in eine Philosophie der Kultur./E. Cassirer Frankfurt am Main: Fischer Velag, 1990.
- Cochin, A. Les societes de Pensee et la Revolution en Bretagne (1788-1789). Histoire analytique. Vol. 1./А. Cochin/-Paris: H. Champion, 1925.
- Elie, M. Les anciens detenus du Goulag: liberations massives, reinsertion et rehabilitation dans l’URSS poststalinienne, 1953-1964./M. Elie History. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), 2007.
- The Dilemas of de-Stalinization. Negotiating Social and Cultural Change in the Khrushchev Era/Jones P. (Ed). -London, 2009.
- Filtzer, A. D. De-Stalinization and industrial worker: the Experience of the Khrushchev Reforms/A. D. Filtzer//Abatracts IV World congress for soviet and east European Studies. -Croyden, 1990.
- Golubev, Al. Making Selves through Making Things: Soviet Do-It-Yourself Culture and Practices of Late Soviet Subjectivation/A. Golubev, O. Smolyak//Cahiers du monde russe, 54/3-4 (Juillet-décembre 2013): 517-541.
- Handke, W. 28 czerwca 1956 r. w notatkach ubowców…./W Handke//Biuletyn Instytutu pamięci narodowej. 2006, nr 6 czerwiec (65) s. 41-55.
- Interview with Alexei Yurchak/Interviews Written by Andres Kurg (Tallinn) Thursday, 05 June 2014 00:00/A. Yurchak//Artmargins online. 6.6.2014. -URL: http://www.artmargins.com/index.php/5-interviews/736-interview-with-alexei-yurchak. (дата обращения 13 01 2016)/
- Soviet State and Society under Nikita Khrushchev/M. Ilic. J. Smith (eds). -London, 2009.