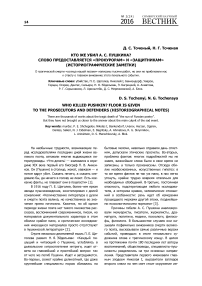Кто же убил А. С. Пушкина? Слово предоставляется "Прокурорам" И "Защитникам" (историографические заметки)
Автор: Точеный Дмитрий Степанович, Точеная Наталья Григорьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 2 (24), 2016 года.
Бесплатный доступ
О трагической смерти «солнца нашей поэзии» написаны тысячи работ, но они не приблизили нас к ответу о главном виновнике этого печального события.
Убийство, п. е. щеголев, николай i, бенкендорф, уваров, герцен, огарев, дантес, сальери, н. я. эйдельман, э. багрицкий, а. ахматова, р. г. скрынников, л. аринштейн, д. с. мережковский, а. блок
Короткий адрес: https://sciup.org/14114332
IDR: 14114332
Текст научной статьи Кто же убил А. С. Пушкина? Слово предоставляется "Прокурорам" И "Защитникам" (историографические заметки)
На необычные трудности, возникающие перед исследователями последних дней жизни великого поэта, сетовали многие выдающиеся литературоведы. «Что делать! — жаловался в середине ХIХ века первый его биограф П. В. Анненков. Он (Пушкин) в столице, женат, уважаем — и потом вдруг убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего в голову не лезет. Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости» [1].
В 1916 году П. Е. Щеголев, более чем яркая звезда пушкиноведения, констатировал с долей сожаления: «Количественно литература о дуэли и смерти поэта велика, но качественное ее значение прямо ничтожно. Кажется, ни об одном периоде жизни поэта нет такого множества рассказов, воспоминаний современников, писем, но материалов документального характера в этом обилии крайне мало, а критические исследования имеющихся материалов просто отсутствуют в пушкинской литературе» [2].
Спустя несколько десятилетий мысль П. Е. Щеголева развил Н. Я. Эйдельман: «Каждый пишущий и читающий о Пушкине, углубляясь в дьявольские хитросплетения интриги, ищет ответа на главнейший и простейший вопрос: так от чего же погиб Пушкин. Ищет и затрудняется. Во-первых, сюжет крайне деликатный, где даже крупнейшие специалисты порою сбивались на бытовые мелочи, невольно отдавали дань сплетням, допускали этические просчеты. Во-вторых, проблема фактов: многих подробностей мы не знаем, важнейшие слова были в свое время не записаны, а только произнесены. Отсюда обилие необоснованных, искусственных гипотез: в то же время фактов не так уж мало, в них легко утонуть, крайне трудно вовремя отвлечься для необходимых обобщений. В-третьих, постоянная опасность, подстерегающая любого исследователя, а историка нравов, человеческих отношений в особенности: речь идет об измерении прошедшего мерками другой эпохи, позднейшими психологическими нормами» [3].
Причины гибели А. С. Пушкина анализировали мемуаристы, писатели, журналисты, драматурги, политики, медики, психологи, философы, филологи. В большинстве случаев они называли пофамильно виновников смерти великого поэта, высказывали самые различные версии событий, приведших в итоге гениального художника слова к трагическому концу. В целом на протяжении почти 180 последних лет авторы воспоминаний, обществоведы, специалисты-пушкинисты разделились на три основных направления. Представители первого именовали главным злодеем Николая I, выразители взглядов второго кляли на чем свет стоит окружение им- ператора, сторонники третьего не жалели отрицательных эпитетов применительно к светскому обществу.
Кажется, что среди отечественных историков (и среди широкой публики тоже) до сих пор преобладало мнение, что к роковому выстрелу, оборвавшему жизнь лучшего поэта России, причастен в той или иной степени Николай I — мучитель нашего многострадального народа. Одним из первых облик этого палача, сжившего со света автора «Евгения Онегина», нарисовал А. И. Герцен: «Император вернул Пушкина из ссылки через несколько дней после того, как были повешены по его приказу герои 14 декабря. Своей милостью он хотел погубить его в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его. Продолжая комедию, Николай произвел Пушкина в камер-юнкеры. В 1837 году Пушкин был убит одним из чужеземных наемных убийц, которые подобно наемникам средневековья или швейцарцам наших дней готовы предложить свою шпагу к услугам любого деспотизма. Он пал в расцвете сил. Царь лишил народ права похоронить своего поэта. Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех толкает в могилу неумолимый рок» [4].
Заклеймил преступление Николая I и друг А. И. Герцена — известный публицист и революционер Н. П. Огарев:
Он зло, и низостно, и больно
Поэту душу уязвил,
Когда коварными устами Ему он милость подарил И замешал между рабами Поэта с вольными мечтами [5].
В конце ХIХ века историк литературы А. Д. Скабичевский тоже нанес яркий мазок в карикатурный портрет инквизитора Николая I. Он подчеркнул, что французский подданный Ж. Дантес, убивший А. С. Пушкина, состоял «под особенным покровительством императора» [6]. Ничуть не сомневался в черных замыслах царя и профессор истории, энциклопедически образованный П. Н. Милюков. Разоблачая Николая I, этот общественный деятель заключил: «Он был, в сущности, единственным лицом, которое могло бы предупредить развязку, если бы хотело. Император ничего для этого не сделал. Он, напротив, считал, что «дерзкое» письмо Пушкина к Геккерну сделало Дантеса правым в сем деле» [7].
Советские историки, обязанные в соответствии с коммунистической идеологией беспощадно разоблачать самодержавие, без обиняков называли царя убийцей великого поэта. Так, М. Н. Покровский, самый маститый служитель богини Клио в 20-е годы ХХ века, заявил, что император-развратник уничтожил А. С. Пушкина, чтобы овладеть его красавицей-женой [8]. В период доминирования культа личности Сталина у отечественных обществоведов прочно утвердилось мнение, что национальную политическую гордость при дворе окружала обстановка неуважения, зависти и недоброжелательства, что там назрел заговор против А. С. Пушкина. И руководил кучкой аристократов-мерзавцев сам Николай I. «Александр Сергеевич, — писал в 1936 году один из ведущих идеологов ВКП(б) В. Кирпотин, — чувствовал себя затравленным. Его обступила стена врагов. Царь насильно держал поэта в этом пекле, не выпуская его из Петербурга, требуя его участия в придворной и светской жизни. Доведенный до крайности, Пушкин решил любой ценой добиться какого бы то ни было выхода из создавшегося положения. Он попытался в последний раз найти управу на своих врагов у царя. Он сообщил Николаю о ведущейся интриге, по-видимому, дав ему понять, что распускаемые сплетни чернят и самого царя. Николай приказал ему молчать. Тогда Пушкин решил сразиться хоть с одним из своих врагов не на жизнь, а на смерть» [9].
Тезисы В. Кирпотина механически (порой, правда, с элементами художественной фантазии) перепевались не только до распада тоталитарной системы, но иногда и после. Профессор высшей партийной школы Э. Н. Бурджалов в 1940 году осудил невиданно жестокое отношение к А. С. Пушкину: «Царь и поэт неизбежно должны были разойтись в разные стороны. Свободолюбивый поэт не мог примириться с существующим порядком. Он не находил выхода из кошмара николаевской реакции. Самодержавие следило за каждым шагом поэта, против него возбуждали следствия, ему делали выговоры. Пушкин чувствовал себя одиноким в среде тогдашнего дворянства. Гениальный русский поэт, восславивший свободу, пал в результате той травли, которую организовало против него высшее общество России во главе с самим царем» [10].
Раскрывая безнравственный облик Николая I, некоторые литературоведы пытались доказать, что император сыграл зловещую роль не только в организации дуэли, но и принял все меры к умерщвлению раненого поэта. И. Сергиевский выразил убеждение в том, что рана, нанесенная Пушкину, была не смертельна, хотя и опасна. Если бы в то время были приняты нужные меры, жизнь поэта, может быть, удалось бы спасти. Но затеянный против него заговор продолжал действовать с прежней неуклонностью. Начинается ряд моральных пыток, преследующих одну цель: довести Пушкина до могилы. Приходит письмо от царя, в котором обессиленному страданиями поэту предлагается немедленно, пока он жив, принять все меры, чтобы не был разглашен подлинный смысл случившегося. Получив это приказание, Пушкин велел вынуть из ящика стола и у себя на глазах сжечь какой-то документ, который, очевидно, мог бы пролить свет на многие обстоятельства, предшествовавшие дуэли.
Поэту строго было рекомендовано воздержаться от каких бы то ни было обвинений по адресу истинных виновников катастрофы. Его, человека неверующего, давнего врага всяческой обрядности, заставили позвать священника и выполнить комедию исповеди и причастия. Да и лечили Пушкина не слишком усердно. Не были применены некоторые медицинские мероприятия, диктовавшиеся наукой того времени. Кто знает — не получил ли пользовавший его лейб-медик Арендт соответствующих внушений свыше, хотя и высказанных в достаточно завуалированной форме. Все эти меры приводят к желанному для властей результату: 29 января (10 февраля по н. ст.) 1837 года, в 2 часа 45 минут пополудни, одного из величайших гениев не стало [11].
Вопрос о том, правильно ли лечили А. С. Пушкина после ранения, также привлек внимание Б. Мейлаха. После долгих размышлений над соответствующими документами и статьями светил медицинской науки он пришел в 1975 году к следующему безапелляционному заключению: «Николай I был, несомненно, заинтересован в скорейшей смерти раненого поэта. Имелись серьезные отступления от врачебной этики, сознательно или бессознательно допущенные под воздействием хитроумно-иезуитской тактики коварнейшего из российских самодержцев» [12].
В завершающий период существования СССР литературоведы отказались от соблазна проведения параллелей между историческими сюжетами Сальери — Моцарт и Николай I — Пушкин: достоверных фактов на этот счет никто так и не смог обнаружить. Все осталось на уровне ярких, но необоснованных предположений. Однако ненависть к императору не ослабе- вала. Вот как прокомментировал в 1989 году В. В. Кунин последнюю встречу императора и великого поэта: «Пушкину дана личная аудиенция. Николай I, как бы теперь не камуфлировали это различными логическими построениями, не прочь был избавиться от поэта. Независимых людей при дворах не выносят — их иногда только терпят. Царь сделал очередной тактический ход. Он успокоил Пушкина, взял с него слово «не драться» и «в случае чего» повелел обратиться прямо к нему. Уже в который раз в жизни Пушкина царская милость оказывалась горче наказания» [13]. Итак, государь взял слово у Пушкина «не драться» на дуэли без его разрешения. Так что же здесь дурного можно усмотреть? В чем можно обвинить императора?
А вот еще один пример недобросовестной интерпретации документа. В 1848 году Николай I поделился с М. Корфом воспоминаниями о великом поэте: «Я впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами от известной болезни.
— Что сделали бы Вы, если 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его между прочим.
— Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли образ его мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я его отпущу на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался с прямым ответом и только после долгого молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим. И что же? Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, ускакал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним присмотреть, Паскевич не охотник шутить».
И вот какой вывод сделал Н. Я. Эйдельман по прочтении этого сообщения: «Поражает неприязнь, злость и, пожалуй, даже отвращение, с которым говорил о Пушкине царь с его странным знакомым. Создается впечатление, что с годами Николай I все больше и больше недоволен Пушкиным и посылает ему, так сказать, посмертный выговор» [14]. Нам представляется, что Н. Я. Эйдельман, рисуя портрет императора, сгущает краски. (К тому же Пушкин на Кавказе явно рисковал жизнью, пытаясь убить хотя бы одного турка. Паскевич запретил ему участвовать в военных действиях.)
После распада Советского Союза, как известно, произошло переосмысление многих исторических проблем, даны совершенно иные оценки деятельности ряду государственных деятелей России. Меньше повезло Николаю I.
Большинство исследователей по-прежнему рассматривают этого императора как прямого, а в лучшем случае косвенного убийцу гениального поэта.
Ободовская И. и М. Дементьев на исходе второго тысячелетия продолжали в своих научных трудах бичевать российского царя, сумевшего задушить простодушного автора «Евгения Онегина». «Чтобы привлечь на свою сторону общественное мнение, — полагают они, — Николай I вызвал Пушкина из ссылки и обещал ему быть его цензором. Пушкин поверил в «милости» царя, в его желание либеральных реформ. Однако вскоре понял, что эти надежды неосновательны. Николай I, прекрасно понимая оппозиционную сущность Пушкина и продолжая внешне разыгрывать «покровителя» поэта, по существу, преследовал, угнетал его как человека и писателя. Пушкин неоднократно пытался вырваться из Петербурга, но каждый раз это вызывало недовольство Николая I, стремившегося удержать поэта в столице под надзором. Окружавшая Пушкина обстановка в конце концов привела к гибели» [15].
Благому Д. Николай I представляется в облике коварнейшего змея-обольстителя: «Четыре месяца, проведенные молодыми Пушкиными в Царском Селе, были едва ли не самыми счастливыми, самыми безоблачными. Но в те же счастливейшие дни произошла встреча Пушкиных во время прогулок с царской четой. Она превратила так трудно завоевываемое счастье в жизненную дорогу поэта не только в уныние, но и роковой погибельный путь». И когда царь назначил ему годовое приличное жалование, то Александр Сергеевич по наивности «не подозревал во что обернется ему новая милость царя» [16].
Яркой догадке Д. Благого о «роковой роли императорской четы» в судьбе поэта несколько иное толкование дал Е. Стеценко. Потрясающее открытие озарило его. Оказывается, последняя дуэль Пушкина была продуманной и спланированной акцией, проведенной Николаем I и Александрой Федоровной. «Анализируя все свидетельства, дошедшие до наших дней, — заявил в 2011 году этот литературовед, — мы невольно заметим, как все высказанное соединится в четкое и последовательное повествование, и тогда у нас не будет сомнений в обвинении обоим Геккернам: злодейское, подлое, преднамеренное убийство Александра Сергеевича Пушкина под видом честного поединка! Известно, что убийца русского поэта по весьма сомнительным причинам был освобожден от сдачи экзамена по уставу службы, военному судопроизводству и русскому языку; после чего барон Дантес, по сути сказать, нищий и вышедший из неименитого рода, зачисляется в Кавалергардский полк! Есть также исторические данные, что до поступления на службу он был представлен российской императрице Александре Федоровне, а полку его представил сам император Николай I» [17].
Со всем пылом страсти обличали Николая I не только историки, литературоведы, но и художники слова. М. Цветаева, размышляя о целесообразности слома монументов в царской России, категорично заявила: «Единственный памятник, который следовало, несомненно, сбить, это памятник императору, убийце Пушкина. Или, щадя работу Клодта, сделать надпись: «Памятник, воздвигнутый убийце Пушкина». Разъясняя более детально свою позицию, она написала: «Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Николай I посадил Пушкина в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера, открытый доступ в архив. В итоге вместо жизни — смерть)» [18]. Поэтесса А. Ахматова, как и М. Цветаева, не раз поминала Николая I недобрым словом. В частности, она отметила, что император сыграл в жизни А. С. Пушкина крайне неприглядную роль (обманул его ужасным и беспощадным образом накануне дуэли) [19].
Искренние чувства миллионов простых советских людей к извергу-императору точно воспроизвел Э. Багрицкий:
Наемника безжалостную руку, Наводит на поэта Николай!
Он здесь, жандарм! Он из-за хвои Следит упорно, — взведены ль курки. Глядят на узкий пистолет Дантеса Его тупые скользкие зрачки [20].
Трактовка Николая I как отпетого негодяя утвердилась, естественно, и в учебных пособиях. И. В. Кузнецов и В. И. Лебедев в книге для учителей создали портрет тирана, уничтожающего без колебаний всех носителей вольномыслия: «Царь преследовал не только создание тайных кружков и организаций, но и всякое стремление к свободе. Жертвами его репрессий стали гениальные русские поэты А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, талантливые поэты Полежаев, Печерин и другие» [21]. Весьма незатейливая легенда о Николае I как средоточии всего российского зла настойчиво внушалась авторами учебников по истории и литературе для восьмиклассников [22].
Кажется, ненависть и презрение к этому императору захлестнули в ХХ веке не только Российское государство, но и перелились через его границы. Е. Лецкий, один из ярких публицистов первой волны эмиграции, рассматривал его как исчадие ада: «С мастерством утонченного гения инквизиции Николай Павлович приближал к себе Пушкина, оказывая ему внимание, платя долги, заранее учитывая чувства благородной признательности со стороны поэта. Одновременно тот же царь не снимал с него камер-юнкерского мундира, ни на минуту не спуская с него жандармских глаз, не разрешая выехать за границу, с цензорской подозрительностью следил за каждой строкой его творений и, «рыцарски» склоняясь перед красотой его жены, не давал своего монаршего соизволения на переезд Пушкиных в деревню из ненавистного Петербурга. Царь и боялся Пушкина, его острого слова и чуткой мысли, и не любил — во всяком случае, не умел — ценить его дарования» [23].
Разумеется, по логике обвинителей Николая I, у этого мерзавца должны быть подручные. Правой рукой преступника-императора стал шеф жандармов и начальник III отделения Канцелярии его величества А. Х. Бенкендорф. По разным причинам в глазах части российского общества он стал олицетворением едва ли не вселенского зла — нечто средним между И. Лойолой и М. Скуратовым. Секундант А. С. Пушкина К. К. Данзас одним из первых высказался о неблаговидной роли этого злодея: «На стороне барона Геккерна и Дантеса был, между прочим, и покойный граф Бенкендорф, не любивший Пушкина. Одним этим нерасположением и можно объяснить, что дуэль не была остановлена полицией. Жандармы были посланы в Екатерин-гоф будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна происходить там, а она была за Черной речкой, около Комендантской дачи» [24].
В конце ХIХ века отрицательную характеристику А. Х. Бенкендорфу дал один из авторов «Энциклопедического словаря»: «Предание и некоторые историки приписывают шефу жандармов в деле декабристов весьма некрасивую роль. Чрезмерная цензурная строгость Бенкендорфа и чрезвычайно суровое отношение его ко всем, кто казался ему политически опасным, тяжелым бременем ложились на духовное развитие русского общества. С упорством и нетерпимостью узкого во взглядах и неумного человека, Бенкендорф старался во всех самостоятельных стремлениях отдельных лиц и всего русского общества найти и уничтожить зародыши ужасного будущего. При этом он мало стеснялся соображениями человечности и даже законом. Несомненна его косвенная виновность в смерти Пушкина» [25].
Гадкую сущность начальника III отделения и его мерзопакостное, ядовитое отношение к великому поэту раскрыл Н. Я. Эйдельман: «Бенкендорф искренне не понимал, что нужно этому Пушкину, но четко и ясно понимал, что нужно ему, генералу, и высшей власти. Поэтому, когда Пушкин отклонялся от правильного пути к добру, генерал писал ему вежливые письма, после которых не хотелось жить и дышать» [26].
Анисимов Е. В. и А. Б. Каменский выявили, пользуясь методикой Н. Я. Эйдельмана, еще одну отвратительную сторону работы А. Х. Бенкендорфа и его вездесущих шпионов-доносчиков, задушивших в своих сетях замечательного поэта: «От всевидящего ока тайной полиции укрыться было невозможно никому. В этом была причина трагедии А. С. Пушкина, отчаянно боровшегося в николаевские годы за неприкосновенность своего внутреннего мира и семьи. Между тем тайных агентов III отделения и жандармов интересовали не только задуманные политические преступления. Они вскрывали частные письма, просматривали книги, которые читают люди. Весной 1934 года Пушкин узнал, что его письмо к жене было распечатано на почте, скопировано и из III отделения доставлено царю» [27].
Брезгливое отношение к шефу жандармов продемонстрировали и другие пушкиноведы. И. Ободовская и М. Дементьев считали, что Бенкендорф «враждебно относится к поэту, письма его к нему были холодно-официальными, зачастую очень резкими» [28]. Д. Благой назвал начальника III отделения «волком в овечьей шкуре» [29]. Но самый бескомпромиссный приговор этому изощренному лицемеру и кровопийце вынес Р. Г. Скрынников: «Поведение Бенкендорфа после кончины Пушкина подтвердило, что шеф жандармов был самым опасным и вероломным врагом поэта» [30].
Кажется, что с Р. Г. Скрынниковым спорить невозможно: действительно, шеф жандармов представлялся многим каким-то мифологическим чудовищем, напоминающим стоглавую гидру. Но, нет, Ю. М. Лотман нашел монстра еще пострашнее. По его мнению, таковым являлся президент академии наук и министр просвещения: «Среди наиболее непримиримых врагов поэта в середине 1830-х годов должен быть назван С. С. Уваров. Конфликт его с Пушкиным не был случайным. Он не щадил никаких средств, чтобы угодить барину (Николаю I). Уваров давал понять императору, что меры, принимаемые Бенкендорфом для обуздания литературы, недостаточны… Соперничество между
Уваровом и Бенкендорфом, между ведомствами идейного руководства и полицейского надзора за литературой, — приводил новые аргументы Ю. М. Лотман, — необходимо учитывать для понимания одного из самых острых конфликтов Пушкина с правительством. Уваров добился, чтобы журнал Пушкина «Современник» проходил кроме цензуры Бенкендорфа еще и обычную, и сознательно давал Пушкину наиболее глупых и трусливых цензоров. Положение Пушкина как литератора делалось невыносимым. Уваров медленно и систематически затягивал на его горле петлю» [31].
Бенкендорф А. Х. и С. С. Уваров являлись для части населения теми фигурами, которые воплощали в себе жадную толпу, стоящую у трона и палаческим образом терзающую гениального поэта. Злодеев-вельмож, имеющих конкретные имена и фамилии, подпирала относительно безликая родовитая знать, или высшее общество, о гнусной роли которого в судьбе А. С. Пушкина с возмущением написал М. Ю. Лермонтов:
Не вынесла душа Поэта
Позора мелочных обид.
Восстал он против мнений света
Один, как прежде, и убит.
Точка зрения Михаила Юрьевича находила сторонников и в ХIХ, и ХХ веках. Например, она очень понравилась И. Ободовской и М. Дементьеву. «Пушкин, — с предельной простотой сформулировали они свою позицию в 1985 году, — пал жертвою клеветы и ненависти великосветского общества» [32]. Соглашаясь с таким заключением в целом, некоторые публицисты и литературоведы считают необходимым конкретизировать долю участия отдельных представителей знати в убийстве поэта. Пушкинисты успешно выявили несколько подозрительных субъектов света, символизирующих его темные силы.
Аринин В. абсолютно уверен, что один из основных центров высшего общества, объединявших врагов поэта, возглавила «поистине красивейшая из женщин». Именно эта прелестница с таким искусством, таким коварством и жестокостью, на что способна лишь злая женщина, провела интригу против поэта. Пушкин пал жертвою заговора. Дантес был просто исполнителем. Вдохновительницей же заговора являлась, вероятнее всего, женщина. И я ее считаю тоже убийцей поэта. Это Идалия Поле-тика». Обвиняя ее, В. Аринин приводит, по его мнению, «неопровержимые» факты: «Она была безумно влюблена в Дантеса, подчиненного своего мужа. Тем не менее поощряла его уха- живания за Пушкиной. И более того, изо всех сил старалась свести Наталию Николаевну с Дантесом. Какое-то извращенное сладострастие и жажда мести переполняли ее. Она объединила вокруг себя всех, кто не любил Пушкина». В. Аринин также высказал предположение, что И. Полетика имела прямое отношение к изготовлению и отправке А. С. Пушкину провокационного «документа» — «диплома Ордена Рогоносцев». Столь же любопытно утверждение этого пушкиниста, к сожалению, не подкрепленное никакими аргументами, что И. Полетика была связана с помощником Бенкендорфа, начальником штаба Корпуса жандармов Дубельтом [33].
Тыркова-Вильямс А. нашла другой светский салон, источавший ядовитые пары, очень вредные для поэта. Она вспомнила о догадке Александра II по поводу роли М. Д. Нессельроде, жены министра иностранных дел: «Насколько у этой знатной дамы, которая по положению мужа могла причинять немало зла, была недобрая репутация, можно судить по тому, что император Александр II раз за обедом в Зимнем дворце сказал:
— Мы же знаем теперь автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина. Это Нессельроде.
В этих случайно брошенных словах — указание на ту враждебную официально-светскую атмосферу, где Пушкин задыхался» [34].
Знакомство с биографической литературой о Пушкине приводит едва ли не каждого читателя к бесспорному постулату: высшее общество в первой половине ХIХ века — это клубок смертоносных змей, скорпионов, тарантулов и прочей нечестии. По нашему мнению, там обитали и настоящие оборотни. Вот, например, Н. Н. Пушкина, которую великий поэт трогательно и восторженно называл часто мадонной. Но некоторые публицисты и литературоведы вскрыли ее подноготную и дали ей совсем другую оценку. А. И. Герцен сказал о том, что Наталья Николаевна сыграла печальную роль в судьбе своего мужа: она «стала причиной его гибели» [35]. Используя сталинскую лексику, советский критик В. В. Ермилов отнес пушкинскую мадонну к категории врагов народа: «Агентура правительства проникала повсюду, она проникла даже в семью Гончаровых. Используя светское легкомыслие Натальи Николаевны, придворная камарилья сделала из жены поэта свое орудие, она подослала своего агента, космополитического проходимца без роду и племени, француза по происхождению, ставшего голландцем по подданству» [36].
Современники-пушкинисты, к нашему удовлетворению, не склонны к употреблению крепких политических выражений по отношению к мадонне, но тем не менее не отвергают мысли о виновности ее в гибели Александра Сергеевича. Е. Рябцев пишет с оттенком грусти, что только после ранения своего супруга она прозрела: «Наконец-то Натали поняла, что случилось. Ее любовь к Дантесу, как к «сказочному» принцу, оказалась смертельной для мужа» [37]. Сходную позицию в оценке ее поведения занимает Ю. Дружников. Анализируя работы выдающихся биографов поэта, он пишет: «Щеголев и Вересаев, собрав огромный материал, прямо обвиняют в смерти Пушкина его жену, и их аргументы очень весомы» [38].
Мы никогда бы не поверили, что обаятельная, чертовски милая, изумительно красивая (мать четверых детей, славных малышек-лапушек) Наталья Николаевна решится на «мокруху» — убийство своего мужа, который в ней души не чаял. Но нельзя не верить целой плеяде пушкинистов, заклеймивших эту жестокосердную гурию. Впрочем, чего не бывает. Возможно в нее вселился бес, подосланный Николаем I, Бенкендорфом, Уваровым или неизвестной нам бандой заговорщиков из числа представителей светского общества. Тем более, что не одна Наталья Николаевна сумела прикинуться бедной овечкой. Бдительные пушкинисты, основательно пошерстив ближайшее окружение поэта, обнаружили там таких мухоморов, что разум отказывается верить.
Например, более полутора веков биографы рассматривали К. К. Данзаса как человека, вполне лояльно относившегося к поэту. А вот Л. Гроссман посмотрел «глубже». «Последние совещания о своей дуэли, — изложил он свои доводы, — поэт имел с лицейским товарищем Данзасом, который никогда не был его другом. Когда в 1820 году Пушкин был близок к самоубийству, рядом были такие друзья, как Чаадаев и Николай Раевский. Он мог с ними обсудить вопрос о жизни и смерти. Теперь ему пришлось обратиться к школьному соученику, внутренне совершенно чуждому. Пушкин один только раз упомянул имя Данзаса в лицейских годовщинах и лишь для того, чтобы отметить, что он был «последним» в их классе. Последним он оказался и в рядах друзей. Он не пытался, как в свое время Липранди, Соболевский, Нащокин, Жуковский и Соллогуб, расстроить поединок или по крайней мере смягчить его условия. Вместе с де Аршиаком он занялся организацией дуэли со смертельным исходом. Расстояние между барь- ерами — всего десять шагов, что само по себе делало смерть почти неминуемой. Ее неизбежность гарантировал жестокий четвертый пункт составленных секундантами правил: в случаи безрезультатности первого обмена выстрелами дуэль возобновлялась на тех же беспощадных условиях.
Непростительная беспечность Данзаса начала сказываться в полной мере с первого же момента мучительного и грозного ранения Пушкина: ни врача, ни кареты для спокойной доставки тяжелораненого, ни хотя бы бинта или тампона для первой помощи (такая забота входила в круг обязанностей секунданта). Данзасу пришлось пойти на компромисс, не свободный от некоторого унижения, и, скрыв это обстоятельство от Пушкина, принять «любезность» его противников, предложивших карету Геккерна для перевозки истекающего кровью поэта» [39].
Ну да Бог с ним, с Данзасом. Возможно, что он не был сокровенным другом и товарищем поэта и проявил, видимо, некоторую халатность при проведении дуэли. Но как могла А. Тырко-ва-Вильямс зачислить В. А. Жуковского в число жестоких недругов А. С. Пушкина, виновников его гибели? «В критический момент своей жизни, — подчеркнула она, — задумав выйти в отставку, великий поэт дал Жуковскому себя переспорить, простодушно поверил, что для житейских дел у его старшего друга больше здравого смысла, чем у него самого. Эта уступка оказалась роковой» [40].
В определении виновников, которые лишили жизни поэта, некоторые деятели российской культуры порой высказывали совершенно необычные предположения. Они были туманными, не совсем понятными и даже заумными. «Между тем жизнь Пушкина, — с оттенком мистики размышлял А. Блок, — склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин — слабела с ним и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным голосу Бенкендорфа. Он кажется нам таковым до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И, если это даже совсем не так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Во второй половине то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно; может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что прочно хранится в мыслях, противоположным моим; надо пережить еще какие-то события; приговор по этому делу — в руках будущего историка России. Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. Поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем» [41].
Мережковский Д. пришел к заключению, что врагами поэта являлись не только какие-то конкретные личности, но и злобно-агрессивной стала вся страна. «Смерть Пушкина, — рассуждал он, — не простая случайность. Драма с женою, очаровательной Натали, ее милыми родственниками — не что иное, как в усиленном и сосредоточенном виде драма всей его жизни — борьба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса завершила то, к чему вела Пушкина русская действительность. Он погиб, потому что ему некуда было дальше идти, некуда расти. С каждым шагом вперед к просветлению поэт становился все более одиноким и враждебным тогдашнему среднему русскому человеку. Для него Пушкин весь был непонятен, чужд, даже страшен» [42].
Таким образом, отечественные деятели культуры в подавляющей части убеждены в том, что поэта окружал сонм видимых, а может, и незримых врагов, которые в конечном счете и сгубили его. И лишь только некоторые думали иначе. Предоставим слово известному философу В. С. Соловьеву: «По мнению самого Пушкина, повторяемому большинством критиков и историков литературы, «свет» был к нему враждебен и даже преследовал его. Та злая судьба, от которой будто бы погиб поэт, воплощается здесь в «обществе», «свете», «толпе» — вообще в той пресловутой среде, роковое предназначение которой только в том, кажется, и состоит, чтобы «заедать» людей. Пушкина будто бы не признавали и преследовали! Но что же, собственно, не признавали в нем, что было предметом вражды и гонений? Его художественное творчество? Едва ли, однако, во всемирной литературе найдется другой пример великого писателя, который так рано, как Пушкин, стал общепризнанным и популярным в своей среде. А говорить о гонениях, которым будто бы подвергался наш поэт, можно только для красоты слога.
Если несколько лет невольного, но привольного житья в Кишиневе, Одессе и собственном Михайловском — есть гонение и бедствие, то как же мы назовем бессрочное изгнание Данте с Родины, тюрьму Камоэнса, объявленное су- масшествие Тасса, нищету Шиллера, остракизм Байрона, каторгу Достоевского и т. д. Внешние условия Пушкина, несмотря на цензуру, были исключительно счастливыми. Когда говорят о вражде светской и литературной среды к Пушкину, то забывают о его многочисленных и верных друзьях в этой самой среде. Но почему же «свет» более представлялся тогда Уваровым или Бенкендорфом, чем Карамзиным, Вяземским и т. д.? И кто были представителями русской литературы: Жуковский, Гоголь, Баратынский, Плетнев или же Булгарин? Едва ли когда-нибудь был в России писатель, окруженный таким блестящим и плотным кругом людей, понимающих и сочувствующих» [43].
А может быть, в непривычных сентенциях В. С. Соловьева есть доля — и немалая — здравомыслящих суждений? И все-таки А. С. Пушкина окружали или контактировали с ним не только «звери алчные, пиявицы ненасытные», каннибалы и оборотни? Н. М. Смирнов, занимавший должности калужского, санкт-петербургского губернатора и хорошо знавший великого поэта, отметил в своих воспоминаниях: «Государь (Николай I. — Авт. ) принял его (Пушкина А. С. — Авт. ) как отец сына, все ему простил, все забыл, обещал покровительство свое и быть единственным цензором всех его сочинений. С тех пор Пушкин посылал государю через Бенкендорфа все свои сочинения в рукописи и по возврате оных отдавал прямо в печать. Государь означал карандашом места, которые не пропускал. Государь был самый снисходительный цензор и пропускал многие места, которые обыкновенная цензура, к которой Пушкин обращался за отсутствием государя, не пропускала» [44].
В 1880 году на открытии памятника А. С. Пушкину выступил составитель и издатель «Русского архива» П. И. Бартенев, который совершенно неожиданно для присутствующих с похвалой отозвался о Николае I: «Господа! Празднуя память великого поэта, помянем добрым словом государя, который освободил его из ссылки, из-под тройного надзора местного губернатора, местного предводителя и соседнего архимандрита и который, как ни тяжело иной раз бывало положение Пушкина, умел усладить последние часы его жизни. Искренняя ему благодарность от беспристрастного потомства» [45]. Еще более высокую оценку императору дал уже упомянутый нами В. С. Соловьев: «Сердечно полюбивший поэта, гордившийся своим Пушкиным, государь знал его необузданный характер и боялся за него. С нежной заботливостью следил он за поступками и после первой несостоявшейся дуэли (с Дантесом. — Авт.) призвал его и потребовал от него честного слова, что в случае необходимости новой дуэли он прежде всего даст об этом знать ему, государю. Но в деле ложной чести была забыта первая обязанность честности. Если бы Пушкин исполнил данное им слово, Россия не потеряла бы своей лучшей славы, и великодушному государю не пришлось бы оплакивать вместе с гибелью поэта и свое рыцарское доверие человека» [46].
Конечно, советские литературоведы никак не могли позволить дружеского или даже нейтрального жеста применительно к злодею-императору. Но тем не менее на это отважился В. Е. Вацуро, и можно расценить такой поступок почти как подвиг: «Условия «договора» Пушкина с правительством не были ни простыми, ни легкими. Николай I не «обманул» его, «умнейшего человека России», и, вероятно, не пытался обмануть» [47].
С началом горбачевской перестройки произошло невиданное: Н. Скатов увидел в императоре не солдафона, не законченного негодяя и душителя свободы, а человека, многие черты которого вызывают симпатии. «Многое в политике Николая, — писал он, — после начала его царствования привлекло к нему многих — и в России, и в Европе. Ставшие почти символическими обозначениями самых мрачных сторон русской жизни — административного и духовного мракобесия (и потому же пушкинских эпиграмм) — Аракчеев и архимандрит Фотий были отстранены. Ставшие почти символическими образами гонителей и погромщиков русского просвещения Рунич и Магницкий, кстати, особенно рьяно преследовавшие еще лицейских пушкинских учителей Куницына и Галича, были, соответственно, первый сослан, второй отдан под суд; оба оказались еще и жуликами-казнокрадами. С другой стороны, возвращался из опалы всегда вызывающий одобрение Пушкина основатель лицея Сперанский. Быстрая и решительная поддержка новым царем борьбы за освобождение Греции, многие годы волновавшей Пушкина, снискала Николаю громкую славу рыцаря Европы, как назвал его Генрих Гейне. И вплоть до 1830 года его как героя-освободителя угнетенных национальностей прославляли, по выражению Маркса, «на всех языках в стихах и прозе» [48].
После распада СССР стало допустимым говорить о том, что Николай I не только терпел вольнодумство поэта, но и заботился о нем. На эту сторону поведения императора обратил внимание Р. Г. Скрынников: «Не следует думать, что Николай I лицемерил, когда высказывал свое расположение Пушкину, давал ему деньги взаймы и платил долги, ограждал от преследований по поводу «возмутительных» сочинений. Наибольшее сближение этих двух людей падает на время Польского восстания, когда поэт предложил монарху использовать его перо и выдвинул проект издания правительственной газеты» [49].
Очень возвышенную оценку отношений императора и поэта дал Л. Выскочков. В своей книге о Николае I он рассказал о том, что царь весьма доброжелательно относился к Пушкину, слегка ухаживая за его женой, и старался предотвратить его дуэль с Дантесом [50].
Аринштейн Л. даже вступил в спор с теми, кто утверждал, что поэт оказался под железной пятой самодержавия, что он, конечно, мог только ненавидеть императора: «Разночинная интеллигенция считала неприличным печатать, будто Пушкин мог сказать что-то одобрительное по отношению к Николаю Павловичу. Прямые высказывания поэта на этот счет («В надежде славы и добра. Гляжу вперед я без боязни», «Он бодро, честно правит нами» и др.) просто игнорировались. Начинавшей идеологизироваться разночинной интеллигенции был так необходим образ Великого поэта — борца с Самодержавием» [51]. Свою точку зрения А. Арин-штейн подтвердил анализом серии пушкинских стихотворений, посвященных императору. Мало того, что в них поэт не раз признается в глубоком уважении Николаю I, но и прямо, к ужасу Герцена, Огарева и других оппозиционеров, заявил: «Царю хвалу свободную слагаю: я смело чувства выражаю. Его я просто полюбил».
В 1834 году А. С. Пушкин и вовсе сошел с ума, он написал стихотворение «К Н.». Точную историю его сотворения воссоздал Л. Арин-штейн. В одном из вечеров в Аничкове дворце было многолюдно, все ждали появления императора. Однако время шло, загремела музыка, закипели танцы, а государь, к удивлению всех, не выходил. Задержался он надолго. И когда он, наконец, показался, многих поразило его одухотворенное лицо. Особенно оно оставило сильное впечатление в душе Пушкина. Оказывается, Николай I увлекся чтением «Илиады». Родились первые поэтические строки:
С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали».
-
Н. В. Гоголь назвал это стихотворение, посвященное российскому императору, «величайшей одой» [52].
Исследователи, обнаружившие, что Николай I относился к великому поэту скорее не как записной злодей, но как требовательный, внимательный и добрый опекун, не считают и его окружение скопищем подлецов и подонков, мечтавших убить, отравить, задушить Пушкина, Лермонтова, Шевченко, Белинского и др. Скажем кратко: конечно, Бенкендорф, Уваров, По-летика, супруги Нессельроде не питали скорее всего симпатий к А. С Пушкину, возможно, не любили и не читали его стихов, но ведь и вреда, как известно, особенного ему не нанесли.
Не существует убедительных доказательств, что «царская камарилья», «бездушный свет» оказались палачами «Свободы, Гения и Славы» [53]. Все это домыслы. Отсутствие же таковых аргументов, подтверждающих привычную версию о виновности императора, его подчиненных и представителей высшего общества, повергло некоторых советских литературоведов в состоянии растерянности. Сложилась парадоксальная ситуация в оценке причин гибели поэта. С одной стороны, налицо роковой выстрел и смерть А. С. Пушкина, а с другой — нет ответа на вечный вопрос: «Кто виноват?» Выйти из этого явно безнадежного положения все-таки попытался Н. Я. Эйдельман, один из самых талантливых пушкинистов коммунистической эпохи: «Пушкин не видел в Николае I некоего «злого гения». Нет! Весь ужас ситуации был в том, что никто — ни царь, ни Бенкендорф, ни другие отнюдь не имели сознательной цели погубить поэта. Они делали все это в основном «непроизвольно», губили просто самим фактом своего социального существования» [54]. К сожалению, Н. Я. Эйдельман не раскрыл своего тезиса о причинах гибели великого поэта. Так что вопрос о главном виновнике трагической смерти А. С. Пушкина не снимается с повестки дня.
( Продолжение следует )
-
1. Эйдельман Н. Я. Статьи о Пушкине. М., 2004. С. 368.
-
2. Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 24.
-
3. Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 369.
-
4. Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Собр. соч. Т. 3. М., 1975. С. 424—425.
-
5. Огарев Н. П. Избранное. М., 1977. С. 26.
-
6. Скабичевский А. Д. Пушкин // Библиотека Фло-рентия Павленкова: Карамзин, Пушкин, Гоголь, Аксаковы, Достоевский. Челябинск, 1994. С. 168.
-
7. Милюков П. Живой Пушкин. М., 1997. С. 271.
-
8. Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке // Избр. произв. Т. 3. М., 1968. С. 123.
-
9. Кирпотин В. Жизнь и смерть Пушкина // Пролетарский путь. 1937. 10 февр.
-
10. Бурджалов Э. Н. История СССР. Ч. 2. М., 1940. С. 310—311.
-
11. Сергиевский И. А. С. Пушкин. М., 1949. С. 108— 109.
-
12. Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. М., 1975. С. 187—188.
-
13. Кунин В. В. 4 ноября 1836 года — 10 января 1837 года // Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 327.
-
14. Эйдельман Н. Указ. соч. С. 205—206.
-
15. Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999. С. 298.
-
16. Благой Д. Погибельное счастье // Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999. С. 37— 38.
-
17. Стеценко Е. Просчет барона Геккерна. Краснодар, 2011. С. 5—6.
-
18. Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981. С. 128, 199.
-
19. Ахматова А. Гибель поэта // Вопр. литературы. 1973. № 3. С. 216.
-
20. Цит. по: Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2005. С. 118.
-
21. Кузнецов И. В., Лебедев В. И. История СССР. М., 1958. С. 327.
-
22. Русская литература. М., 1975. С. 121; Федосов И. А. История СССР. ХIХ век. М., 1986. С. 96.
-
23. Ляцкий Е. Пушкин и его историческая мысль // Заветы Пушкина. Из наследия первой эмиграции. М., 1998. С. 195.
-
24. Кунин В. В. Константин Карлович Данзас // Друзья Пушкина. Т. 2. М., 1984. С. 544; Стеценко Е. Указ соч. С. 276.
-
25. Автор статьи «Бенкендорфы» выступает под инициалами С. Ч. См.: Русский биографический словарь : в 20 т. Т. 2. М., 1998. С. 316, 318, 319.
-
26. Цит. по: Шикман А. Кто есть кто в российской истории. М., 2003. С. 53.
-
27. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. История России. 1682—1861. М., 1996. С. 427.
-
28. Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999. С. 298—299.
-
29. Благой Д. Указ. соч. С. 31.
-
30. Скрынников Р. Дуэль Пушкина. СПб., 1999. С. 312.
-
31. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982. С. 218—219.
-
32. Ободовская И., Дементьев М. Наталия Николаевна Гончарова. М., 1985. С. 281.
-
33. Аринин В. Неразгаданные тайны Пушкина. М., 1998. С. 139, 144, 145.
-
34. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 441.
-
35. Герцен А. И. Указ. соч. С. 425.
-
36. См.: Дружников Ю. Дуэль с пушкинистами. Псков, 2004. С. 76.
-
37. Рябцев Е. 113 прелестниц Пушкина. Ростов н/Д., 1999. С. 431.
-
38. Дружников Ю. Указ. соч. С. 102.
-
39. Гроссман Л. Пушкин. Т. 2. М., 1960. С. 499.
-
40. Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 422.
-
41. Блок А. О назначении поэта // Собр. соч. Т. 2. М.-Л., 1962. С. 166—167.
-
42. Мережковский Д. С. А. С. Пушкин // А. С. Пушкин. Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 196.
-
43. Соловьев В. С. Судьба Пушкина // Пушкин. Антология. М., 2000. С. 281, 282, 284.
-
44. Смирнов Н. М. Из «памятных записок» // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 274.
-
45. А. С. Пушкин. Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 653 (примеч. к тому).
-
46. Соловьев В. С. Памяти императора Николая I // Соч. Т. 2. М., 1989. С. 608.
-
47. Вацуро В. Е. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 17.
-
48. Скатов Н. Русский гений. М., 1987. С. 273; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 14. М., 1959. С. 512.
-
49. Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 310.
-
50. Выскочков Л. Николай I. М., 2006. С. 421—427. (Жизнь замечательных людей).
-
51. Аринштейн Л. Пушкин. Непричесанная биография. М., 2011. С. 158.
-
52. Там же. С. 155.
-
53. Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 1. М., 1957. С. 7.
-
54. Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 397.
Список литературы Кто же убил А. С. Пушкина? Слово предоставляется "Прокурорам" И "Защитникам" (историографические заметки)
- Эйдельман Н.Я. Статьи о Пушкине. М., 2004. С. 368.
- Щеголев П. Е Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 24.
- Герцен А. И. О развитии революционных идей в России//Собр. соч. Т. 3. М., 1975. С. 424-425.
- Огарев Н. П. Избранное. М., 1977. С. 26.
- Скабичевский А. Д. Пушкин//Библиотека Флорентия Павленкова: Карамзин, Пушкин, Гоголь, Аксаковы, Достоевский. Челябинск, 1994. С. 168.
- Милюков П. Живой Пушкин. М., 1997. С. 271.
- Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке//Избр. произв. Т. 3. М., 1968. С. 123.
- Кирпотин В. Жизнь и смерть Пушкина//Пролетарский путь. 1937. 10 февр.
- Бурджалов Э. Н. История СССР. Ч. 2. М., 1940. С. 310-311.
- Сергиевский И. А. С. Пушкин. М., 1949. С. 108-109.
- Мейлах Б. Талисман. Книга о Пушкине. М., 1975. С. 187-188.
- Кунин В. В. 4 ноября 1836 года -10 января 1837 года//Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 327.
- Эйдельман Н. Указ. соч. С. 205-206.
- Ободовская И, Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999. С. 298.
- Благой Д. Погибельное счастье//Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999. С. 37-38.
- Стеценко Е. Просчет барона Геккерна. Краснодар, 2011. С. 5-6.
- Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981. С. 128, 199.
- Ахматова А. Гибель поэта//Вопр. литературы. 1973. № 3. С. 216.
- Сарнов Б. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2005. С. 118.
- Кузнецов И. В., Лебедев В. И История СССР. М., 1958. С. 327.
- Русская литература. М., 1975. С. 121;
- Федосов И. А. История СССР. XIX век. М., 1986. С. 96.
- Ляцкий Е. Пушкин и его историческая мысль//Заветы Пушкина. Из наследия первой эмиграции. М., 1998. С. 195.
- Кунин В. В. Константин Карлович Данзас//Друзья Пушкина. Т. 2. М., 1984. С. 544;
- Русский биографический словарь: в 20 т. Т. 2. М., 1998. С. 316, 318, 319.
- Шикман А. Кто есть кто в российской истории. М., 2003. С. 53.
- Анисимов Е. В., Каменский А. Б. История России. 1682-1861. М., 1996. С. 427.
- Ободовская И., Дементьев М. Вокруг Пушкина. М., 1999. С. 298-299.
- Скрынников Р. Дуэль Пушкина. СПб., 1999. С. 312.
- Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1982. С. 218-219.
- Ободовская И., Дементьев М. Наталия Николаевна Гончарова. М., 1985. С. 281.
- Аринин В. Неразгаданные тайны Пушкина. М., 1998. С. 139, 144, 145.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 441.
- Дружников Ю. Дуэль с пушкинистами. Псков, 2004. С. 76.
- Рябцев Е. 113 прелестниц Пушкина. Ростов н/Д., 1999. С. 431.
- Гроссман Л. Пушкин. Т. 2. М., 1960. С. 499.
- Тыркова-Вильямс А. Пушкин. Т. 2. М., 1998. С. 422.
- Блок А. О назначении поэта//Собр. соч. Т. 2. М.-Л., 1962. С. 166-167.
- Мережковский Д. С. А. С. Пушкин//А. С. Пушкин. Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 196.
- Соловьев В. С. Судьба Пушкина//Пушкин. Антология. М., 2000. С. 281, 282, 284.
- Смирнов Н. М. Из «памятных записок»//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1985. С. 274.
- А. С. Пушкин. Антология. Т. 1. СПб., 2000. С. 653 (примеч. к тому).
- Соловьев В. С. Памяти императора Николая I//Соч. Т. 2. М., 1989. С. 608.
- Вацуро В. Е. Пушкин в сознании современников//А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1974. С. 17.
- Скатов Н. Русский гений. М., 1987. С. 273; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 14. М., 1959. С. 512.
- Выскочков Л. Николай I. М., 2006. С. 421-427. (Жизнь замечательных людей).
- Аринштейн Л Пушкин. Непричесанная биография. М., 2011. С. 158.
- Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 1. М., 1957. С. 7.