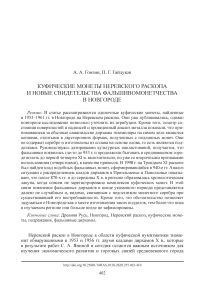Куфические монеты неревского раскопа и новые свидетельства фальшивомонетчества в Новгороде
Автор: Гомзин А.А., Гайдуков П.Г.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Нумизматика
Статья в выпуске: 256, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются одиночные куфические монеты, найденные в 1953-1961 гг. в Новгороде на Неревском раскопе. Они уже публиковались, однако повторное исследование позволило уточнить их атрибуции. Кроме того, осмотр состояния поверхностей и надписей и проведенный анализ металла показали, что принимавшиеся за обычные саманидские дирхамы экземпляры на самом деле являются копиями, отлитыми в двусторонних формах, полученных с подлинных монет. Они не содержат серебро и изготовлены из сплава на основе олова, то есть являются подделками. Руководствуясь датировками культурных напластований, получается, что фальшивки появились где-то до 953 г. и продолжили бытовать в средневековом городе вплоть до первой четверти XI в. включительно, но уже со вторичными признаками использования (отверстиями), в качестве привесок. В 1998 г. на Троицком XI раскопе был найден клад подобных фальшивых монет, сформировавшийся в 940-е гг. Анализ ситуации с распределением кладов дирхамов в Приильменье и Поволховье показывает, что после 870-х гг...
Древняя русь, новгород, неревский раскоп, куфические монеты, подражания, фальшивые дирхамы
Короткий адрес: https://sciup.org/143169001
IDR: 143169001
Текст научной статьи Куфические монеты неревского раскопа и новые свидетельства фальшивомонетчества в Новгороде
Неревский раскоп в Новгороде в области куфической нумизматики знаменит обнаруженными в 1953 и 1956 гг. двумя кладами дирхамов Х в., которые в результате работ С. А. Яниной и сегодня остаются важным источником для изучения экономического развития и торговых связей средневекового города http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.402-410
и существенным подспорьем в работе нумизматов-ориенталистов ( Кропоткин , 1971. С. 82. № 52, 53; Янин , 1956. С. 76; Янина , 1956; 1963).
Кроме кладов, в 1953–1961 гг. на этом раскопе были обнаружены шесть одиночных куфических монет, опубликованных в 2002 г. ( Гайдуков и др. , 2002). Повторное обращение к ним показало, что существует возможность не только уточнения их атрибуции, но и получения дополнительных данных относительно особенностей их обращения и использования в Новгороде.
Рассматриваемая выборка распадается на две равные части. Одну составляют монеты, классифицируемые как подражания дирхамам. Первый экземпляр найден в 1953 г. (раскоп III–Д, усадьба Б, кв. 320, № 5) в ярусе 23 пласта 25, по дендродате относящемся к 1055–1076 гг. ( Гайдуков и др. , 2002. С. 57. № 1). Вес 2,25 г, край с небольшой утратой (рис. 1: 1 ). Представляет собой сильно редуцированное подражание, весьма отдаленно напоминающее куфическую монету. Все легенды состоят из наборов вертикальных и горизонтальных графем. Внизу поля каждой стороны по три точки, расположенных треугольником. Оба поля обрамлены внутренним точечным и внешним линейным ободками. С каждой стороны по одной круговой легенде с двумя кружками с точками в центре примерно на 3 и 9 часов. Обе круговые надписи обрамлены точечными ободками.
В статье 2002 г. высказывалась мысль, что подражание имело ушко, которое отломилось, и изначально предполагалось к использованию не для обращения, а в качестве украшения (Там же. С. 57). Стоит отметить, что монетная пластина данного экземпляра не имеет характерных для крепления ушка деформаций и площадь утраченного фрагмента, где оно могло бы располагаться, слишком для него мала. Соответственно, ушка либо вовсе не было, либо оно составляло единое целое с монетной пластиной. В любом случае заключение об изначальном применении подражания в виде украшения представляется вполне оправданным. Тем более что проведенный анализ металла показал здесь полное отсутствие серебра1. Сплав состоит из олова (68,41 %) и свинца (29,62 %). Присутствуют также небольшие количества железа (0,77 %), меди (0,08 %), цинка (0,03 %) и марганца (0,39 %).
Второе подражание, обнаруженное в 1957 г. (раскоп ХХ–Г, усадьба Е, пласт 36, ниже яруса 28, кв. 1394, № 4), происходит из «доярусного» слоя, относящегося ко времени до 953 г. (Там же. С. 57. № 4). Оно имитирует две оборотные стороны саманидского дирхама, на одной из которых прочитывается имя амира Насра б. Ахмада, и, видимо, по этой причине первоначально ошибочно было принято за подлинную монету Саманидов. Вес 2,11 г, край с крупными утратами (рис. 1: 2 ). Имя халифа на лучше сохранившейся стороне точно не идентифицируется. Поле обрамлено двойным линейным ободком. На второй стороне в поле

Рис. 1. Куфические монеты Неревского раскопа различимы лишь «Лиллах» и «Мухаммад». Поле обрамлено двойным линейным ободком. В составе сплава доминирует медь (61,54 %); присутствует заметная доля железа (19,76 %). Содержание олова – 9,67 %, цинка – 6,92 %, свинца – 1,8 %, серебра – 0,12 %, марганца – 0,07 %.
Третье подражание найдено в 1959 г. (раскоп XXVI, усадьба Д, пласт 19 (гл. 376 см), ярус 24–25, кв. 1754, № 2) в слое, датирующемся 1006–1055 гг. (Там же. С. 57. № 5). Вес 2,13 г, целое (рис. 1: 3 ). Л.с. слабо сохранилась, легенды неразборчивы. Последняя строка в поле предварительно может быть прочитана как «Микаил». Ниже расположено орнаментальное украшение. О.с. передана зеркально и имитирует саманидский дирхам Насра б. Ахмада. Имя амира искажено, но идентифицируется. Имя халифа неразборчиво. От круговой легенды различимы лишь небольшие фрагменты. Возможно, есть линейный ободок, обрамляющий поле. Монетная пластина вырезана из листа. В основе ядро из цветного металла, плакированное серебристым металлом. В составе сплава преобладают медь (69,01 %) и олово (17,09 %). Присутствуют свинец (6,95 %), цинк (5,7 %), железо (0,86 %), серебро (0,23 %) и марганец (0,09 %).
Вторую часть выборки составили монеты, которые поначалу были приняты за обычные саманидские дирхамы. Первая обнаружена в 1954 г. (раскоп XI–Е, усадьба Г, пласт 30, ярус 25–26, кв. 841, № 6) в слое, относящемся к 989–1025 гг.
Саманиды, Наср б. Ахмад, аш-Шаш, 323 г.х. (934/935 г.) ( Тизенгаузен , 1853. С. 176. № 1). Вес 3,06 г, с двумя отверстиями, просверленными с о.с. (рис. 1: 4 ). Изначально дата чеканки дирхама была определена неточно – 324 г.х. – из-за «расплывшихся» надписей, которые публикаторы сочли потертыми и помытыми химическим раствором ( Гайдуков и др. , 2002. С. 57. № 2). В металле монеты доминирует олово (86,1 %), присутствуют медь (11 %) и небольшие количества свинца (1,75 %), железа (0,42 %), цинка (0,38 %), мышьяка (0,08 %), висмута (0,06 %) и ртути (0,02 %).
В 1956 г. в «доярусном» слое, относящемся ко времени до 953 г. (раскоп ХV–XVI–Е, усадьба К, пласт 30, ниже яруса 28, кв. 1184А, № 1), найден второй дирхам ( Гайдуков и др. , 2002. С. 57. № 3). Саманиды, Наср б. Ахмад, аш-Шаш, 309 г.х. (921/922 г.) ( Тизенгаузен , 1853. С. 156. № 5). Вес 3,08 г, целый (рис. 1: 5 ). Поле л.с. отделено от круговых легенд линейным ободком. На о.с. поле обрамлено двойным линейным ободком с тремя кружками на 3, 6, 9 и 12 часов. Посередине между ними расположено еще по кружку. Как и у предыдущего экземпляра, в составе сплава преобладает олово (77,22 %), присутствуют медь (19,07 %), свинец (2,29 %), цинк (0,77 %), железо (0,52 %) и марганец (0,04 %).
Третий дирхам обнаружен в 1961 г. в слое, относящемся к 972–989 гг. (раскоп XXXII–Б, усадьба Д-2, пласт 31, ярус 27, кв. 2047, № 2). Саманиды, Наср б. Ахмад. Вес 1,92 г, обломок около 2/3, с деформированным и поврежденным окисла-ми отверстием (рис. 1: 6 ). На л.с. с выпускными сведениями виден небольшой неидентифицируемый фрагмент внутренней круговой легенды. От имени амира на о.с. различимо лишь отчество, что допускает варианты по установлению эмитента, но по палеографии экземпляр близок дирхамам Насра. Имя халифа не идентифицируется. Поле обрамлено широким линейным ободком, либо это слившийся двойной ободок.
На основании палеографических особенностей публикаторы сочли возможным отнести монету к чекану Самарканда, однако какие-либо характерные для указанного места выпуска элементы проследить на данном экземпляре из-за сохранности не представляется возможным ( Гайдуков и др. , 2002. С. 57, 58. № 6). В составе металла снова доминирует олово (87,31 %), присутствуют свинец (8,14 %), медь (3,32 %), железо (0,89 %), марганец (0,25 %) и цинк (0,03 %).
Получается, что все принимавшиеся за обычные саманидские дирхамы монеты на самом деле являются фальшивыми и совсем не содержат серебро. Они отлиты в двусторонних формах, полученных с подлинных дирхамов. О технологии их изготовления свидетельствуют оплывшие надписи, непроливы отдельных участков, раковины и наплывы металла на поверхности.
Следует отметить, что в 1998 г. на Троицком XI раскопе в Новгороде был найден клад из 11 фальшивых куфических монет, аналогично полученных литьем в двусторонние формы ( Гайдуков, Гомзин , 2017). В их сплаве также преобладало олово (81,41–91,06 %), присутствовали медь, свинец и цинк.
Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что клад 1998 г. датируется 940-ми гг. И дирхам 1956 г. Неревского раскопа происходит из слоя до 953 г., то есть они появились примерно в одно и то же время. Не исключена вероятность, что две другие фальшивые монеты из хронологически более поздних горизонтов тоже были изготовлены в указанный период, однако их «недоброкачественность»
была замечена владельцами, вследствие чего они получили отверстия и в дальнейшем использовались в качестве привесок.
Если обратиться к распределению кладов куфических монет в Приильменье и Поволховье, то непосредственно в Новгородской округе наиболее ранние комплексы появляются в 860-е гг. – из окрестностей Новгородского (Кирилловского) монастыря 1920 г., на Рюриковом городище 1980 и 1982 гг. ( Бауер , 2014. С. 108. № 13; Гайдуков и др. , 2007. С. 83. № 2, 3; Кропоткин , 1971. С. 82. № 50; Носов , 1990. С. 90, 92, 100; Пахомов , 1926. С. 79. № 264, место указано неверно; Фасмер , 1925. С. 242–276; 1926. С. 291. № 28; Фомин , 1993. С. 14, 15). Синхронный им клад, Потерпелицкий 1935 г., зарегистрирован на Мсте в районе порогов ( Кропоткин , 1971. С. 83. № 55; Носов , 1976. С. 103; Пахомов , 1949. С. 93, 94. № 1304).
В первой половине 870-х гг. находки локализуются только в Южном При-ильменье, причем это два клада, Шумиловский 1927 г. и Любыньский 1972 г., входящие в число самых крупных восточноевропейских депозитов IX в. ( Бауер , 2014. С. 109. № 21; Кропоткин , 1971. С. 83. № 56; Кулешов , 2011; Пахомов , 1949. С. 94. № 1305; 1966. С. 110–112. № 2159; Фомин , 2003. С. 70; Янин , 1956. С. 75; 1960. С. 142. № 1; Noonan, Kovalev , 2002. С. 152, 153).
С этого момента в бассейне Ильменя и Волхова фиксируется крупная хронологическая лакуна, когда фактически до середины Х в. здесь неизвестны клады дирхамов2. Подобное длительное их отсутствие требует объяснений. Для рассматриваемого региона, как правило, указывается его значимость в социально-экономических отношениях Древней Руси, поскольку здесь сходятся важнейшие торговые пути, которые вели как вглубь древнерусского государства, сопредельных ему территорий и далее в Хазарский каганат, Волжскую Булгарию, Среднюю Азию и Ближний Восток, так и на Балтику. Увязать это с системой налаженных коммуникаций и транзитом мусульманского монетного серебра далее на запад представляется не вполне логичным, поскольку кладов здесь нет не только в «благоприятное» время, например в 900–920-е гг., когда в Восточную Европу в больших объемах стали поступать саманидские дирхамы, но и для кризисных в этом плане промежутков времени, выразившихся в сокращении притока мусульманского монетного серебра, например, на рубеже IX–X вв. Очевидно, вопрос этот требует более детального исследования и, возможно, изучения новых находок, которые еще могут появиться.
Как бы то ни было, в этой связи, видимо, далеко не случайным выглядит появление в Новгороде в 940-е гг., в конце хронологической лакуны, фальшивых куфических монет и даже целого клада из них, пусть и небольшого3. Можно подозревать, что причиной тому послужило отсутствие депозитов в предшествующий период, вероятно указывавшее на недостаток серебряных дирхамов при существовавшей их востребованности. Это же обстоятельство позволяет задуматься о Новгороде как о месте производства подобных литых монет. Безусловно, с учетом указанных нами ранее территориально широких аналогий в применении технологии литья и металлических сплавов и до обнаружения очевидных тому свидетельств, например производственного комплекса с характерными материалами, делать такой вывод было бы некорректно (Гайдуков, Гомзин, 2017. С. 297–299). Однако поставить подобный вопрос вполне возможно, тем более учитывая, что таких же фальшивых дирхамов в Приильменье и Поволховье пока больше нигде, кроме Новгорода, не зафиксировано.
Список литературы Куфические монеты неревского раскопа и новые свидетельства фальшивомонетчества в Новгороде
- Бауер Н. П., 2014. История древнерусских денежных систем IX в. - 1535 г. / Подгот. П. Г. Гайдуков. М.: Русское слово. CXXIV, 692 с.
- Быков А. А., 1925. Клад серебряных куфических монет, найденный в Новгороде в 1903 г. // Известия Российской академии истории материальной культуры. Т. IV. Л. С. 133-139.
- Гайдуков П. Г., Гомзин А. А., 2017. Новгородский клад куфических монет 1998 г. // КСИА. Вып. 249. Ч. I. С. 291-304.
- Гайдуков П. Г., Молчанов А. А., Носов Е. Н., 2007. Находки восточных монет VI-X вв. на Новгородском (Рюриковом) городище // У истоков русской государственности: к 30-летию археологического изучения Новгородского Рюрикова Городища и Новгородской областной археологической экспедиции: Историко-археологический сборник: материалы междунар. науч. конф. (4-7 октября 2005 г., Великий Новгород) / Отв. ред. Е. Н. Носов. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 82-88.
- Гайдуков П. Г., Молчанов А. А., Янин В. Л., 2002. Единичные находки куфических монет на Неревском раскопе в Новгороде // Десятая Всероссийская нумизматическая конференция: тез. докл. и сообщ. М.: ГИМ. С. 56-58.
- Гомзин А. А., 2013. Восточное монетное серебро IX - начала XI в. в Среднем и Нижнем Поочье: дис. … канд. ист. наук. М. 499 с.
- Кропоткин В. В., 1971. Новые находки сасанидских и куфических монет в Восточной Европе // Нумизматика и эпиграфика. Т. IX. М.: Наука. С. 76-97.
- Кулешов Вяч. С., 2011. Шумиловский клад // Нумизматика и эпиграфика. Вып. XVIII. М.: Памятники исторической мысли. С. 191-231.
- Кулешов Вяч. С., 2016. Периодизация монетного обращения середины VIII - начала XI в. в Восточной Европе и динамика экономических связей древнейших русских дружин // Управленческое консультирование. № 2 (86). С. 169-179.
- Носов Е. Н., 1976. Нумизматические данные о северной части Балтийско-Волжского пути конца VIII - X в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. VIII. Л.: Наука. С. 93-110.
- Носов Е. Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.: Наука. 215 с.
- Пахомов Е. А., 1926. Монетные клады Азербайджана и Закавказья. Баку: Общество обследования и изучения Азербайджана. 100 с. (Труды Общества обследования и изучения Азербайджана; вып. 3.)
- Пахомов Е. А., 1949. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа. Вып. 4. Баку: Изд-во АН АзССР. 116 с.
- Пахомов Е. А., 1966. Монетные клады Азербайджана и других республик, краев и областей Кавказа. Вып. 9. Баку: Изд-во АН АзССР. 124 с.
- Тизенгаузен В. Г., 1853. О саманидских монетах. СПб.: Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг. 237 с. (Записки Императорского Археологического общества; т. VI, отд. I.)
- Фасмер Р. Р., 1925. Клад куфических монет, найденный в Новгороде в 1920 г. // Известия Российской академии истории материальной культуры. Т. IV. Л. С. 242-276.
- Фасмер Р. Р., 1926. Список монетных находок, зарегистрированных секцией нумизматики и глиптики Академии истории материальной культуры в 1920-1925 гг. // Сообщения Государственной академии истории материальной культуры. Т. I. Л. С. 287-308.
- Фомин А. В., 1993. Новые находки восточных монет в Северной Руси // Всероссийская нумизматическая конференция: тез. докл. и сообщ. Вологда: ЛиС. С. 13-15.
- Фомин А. В., 2003. Новгородские клады куфических монет IX в. // Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая конференция: тез. докл. и сообщ. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 69-70.
- Янин В. Л., 1956. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М.: Изд-во МГУ. 208 с.
- Янин В. Л., 1960. Монетные клады Новгородского музея // Нумизматика и эпиграфика. Т. II. М.: Изд-во АН СССР. С. 141-154.
- Янина С. А., 1956. Неревский клад куфических монет Х века // Труды новгородской археологической экспедиции. Т. I. М.: Изд-во АН СССР. С. 180-207. (МИА; № 55.)
- Янина С. А., 1963. Второй Неревский клад куфических монет Х в. // Труды новгородской археологической экспедиции. Т. III. М.: Изд-во АН СССР. С. 287-331. (МИА; № 117.)