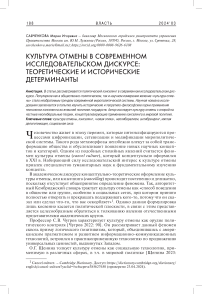Культура отмены в современном исследовательском дискурсе: теоретические и исторические детерминанты
Автор: Савченкова Мария Игоревна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается политический кэнселинг в современном исследовательском дискурсе. Популярное как в общественно-политическом, так и научном измерении явление «культура отмены» стало необратимым трендом современной мирополитической системы. Научная новизна исследования заключается в попытке изучить исторические и теоретико-философские корни применения технологии кэнселинга во внешней политике государств. Автор исследует культуру отмены с опорой на частные неолиберальные теории, концептуализирующие применение кэнселинга в мировой политике.
Культура отмены, кэнселинг, «новая этика», неолиберализм, антибрендинг, мягкая делигитимация, социальная сила
Короткий адрес: https://sciup.org/170205579
IDR: 170205579 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-3-188-194
Текст научной статьи Культура отмены в современном исследовательском дискурсе: теоретические и исторические детерминанты
Профессор С.В. Чугров характеризует культуру отмены как орудие политического контроля [Чугров 2022: 90]. Он рассматривает данный феномен сквозь призму логического позитивизма, который, объединившись с американским прагматизмом и развитием информационно-коммуникационных технологий, встроился в практикоприменимую технологию по продвижению универсальных ценностей, выдвинутых Западом.
О.Г. Щенина толкует культуру отмены как социальную технологию, применимую в различных сферах, в т.ч. в мировой политике [Щенина 2023:
117]. Она сосредоточивает внимание на процессе цифровизации современного общества, который сыграл ключевую роль в оформлении феномена. Основополагающие каналы культуры отмены способны функционировать благодаря существованию новых медиа. Исследователь делает акцент на социальности взаимодействий между субъектами, в частности в цифровой реальности.
Л.Р. Рустамова определяет культуру отмены как политический инструмент, позволяющий странам использовать общественное мнение в целях межгосударственного противоборства [Рустамова, Иванова 2023: 437]. На ее взгляд, в эпоху развития Интернета кэнселинг стал катализатором политизации тех сфер жизни общества, которые исконно считались аполитичными: искусства, спорта, религии и др.
Экстраполируя взгляды отечественных исследователей на определение культуры отмены, важно выделить два фактора, объединяющих трактовки ученых. Во-первых, культура отмены сопряжена с социальными императивами, т.е. ее следует понимать как альтернативный механизм реализации общественных взаимодействий. Кэнселинг отличает то, что он выступает как социальная норма, вызывающая скорее социальные, чем юридические санкции. Во-вторых, катализатором кэнселинга стал научно-технологический прогресс и информатизация общества: явление «отмены» попросту не получило бы такие колоссальные обороты без существования новых медиа и социальных сетей.
Отечественному подходу к пониманию культуры отмены откликаются и наработки западных исследователей. Представитель гарвардской школы социальной философии П. Норрис описывает культуру отмены как попытку подвергнуть социальный субъект остракизму за нарушение общественных норм [Norris 2023: 146]. При изучении феномена она опирается на теорию спирали молчания Э. Ноель-Нойман [Noelle-Neumann 1974: 45]. Согласно теории спирали молчания, если индивид находится в меньшинстве, то он склонен скрывать свое мнение, а являясь частью большинства, наоборот, предрасположен к более открытому выражению. Квинтэссенцией в концепте культуры отмены с позиции теории спирали молчания является общественное мнение.
При раскрытии категории культуры отмены представляется важным обозначить, что кэнселинг тесно сопряжен с концепцией «новой этики». Это системный процесс, который длится с начала последнего столетия и развивается в социальной сфере. Его суть сводится к повышенному вниманию к морализму, харассменту, дискриминации меньшинств и к явной идеологической ангажированности. В российских научных кругах некоторые исследователи называют культуру отмены прямым синонимом «новой этики» [Коктыш, Ренард-Коктыш 2021: 33]. Другие же склонны делегировать культуре отмены роль практического инструмента в реализации политики «новой этики» [Топилина 2023: 206]. В зарубежных академических сообществах культура отмены становится предметом дискуссии, поскольку ее можно рассматривать как своеобразный пример нормативного напряжения между свободой слова и выражением инакомыслия [Novelli 2023: 2].
Современный тренд на «отмену» хотя и является новым инструментом внешней политики, но имеет глубокие истоки. Практика кэнселинга, или изгнания является закономерным паттерном в развитии общества, уходящим корнями к библейским временам. Так, со времен Ветхого Завета была сформулирована концепция «козла отпущения» – символический обряд, в рамках которого случайно «избранного» животного выпускали в пустыню с целью искупления грехов человечества1.
В Древнем мире кэнселинг легитимировался в формате института остракизма, функционировавшего в Афинах и других полисах античной Греции. Термин «остракизм» обязан своему происхождению глиняным черепкам, именуемым остраками, на которых афиняне писали имена лиц, заслуживающих изгнания. Остракизм являлся проявлением демократии и считался скорее превентивной мерой, нежели наказанием [Суриков 2005: 124]. Изгоняемых граждан исключали из полиса на 10 лет с сохранением по возвращении имущественных и политических прав. Подобный механизм позволял убирать с политической арены неугодных государственных деятелей. Так, например, жертвой остракофории стал Фукидид. Его политический вес был больше, чем у Перикла, который после изгнания Фукидида, по словам Плутарха, стал обладателем единоличной власти [Плутарх 1994: 16].
«Отмена» порицаемых личностей осуществлялась и в других, менее демократичных уголках античного мира, однако специфика заключалась в том, что изгнание из общества сопровождалось попыткой «стереть» отвергнутого из памяти. Жертвой кэнселинга стали деспотичные императоры Калигула и Нерон, чьи имена были стерты с надгробий в попытках вычеркнуть их из истории римского народа. Подобный ритуал совершали и древние египтяне, соскабливая с плит имена отчужденных обществом фараонов [Чугров 2022: 92]. Проведение подобных обрядов доказывает, что культура отмены тесно сопряжена с политикой памяти. Историческая память является одним из объектов атаки культуры отмены, в результате чего исторический имидж личности, компании, народа или целого государства может сильно пострадать.
В Средние века квинтэссенцией жизнедеятельности европейского человека стала религия. Кэнселинг трансформировался под общепризнанные догматические ценности, и «отмена» осуществлялась посредством интердикта или анафем (отлучение от церкви). В истории как православной, так и католической церкви существует масса примеров «отмены» того или иного народа или личности по причине достижения внешнеполитических интересов. Например, борясь с псковским князем Александром, православный митрополит Феогност отлучил его и всех псковичей от церкви до тех пор, пока горожане не выдадут своего князя на расправу московскому князю [Грекулов 1964: 19]. Западное духовенство «отменяло» иноверцев с помощью инквизиции. Сжиганию предавались не только люди, но и книги, научно-технические изобретения и в целом любые предметы, которые могли показаться церкви «отклоняющимися от нормы». Это серьезная попытка стереть какие-либо исторические сюжеты из коллективной памяти европейских народов.
В Новое время были опробованы первые эксперименты кэнселинга целых государств, однако сделать это было сложно ввиду слабой степени взаимозависимости между государствами и незначительного влияния на них структуры международных отношений. Например, известны случаи ограничения некоторыми европейскими монархами политических и экономических связей с Московией в XVI в., о чем пишет австрийский дипломат С. Герберштейн [Мусалитина 2023: 18].
С течением времени модернизирующаяся система международных отношений внесла ряд коррективов, в результате которых легитимно «отменить» государства стало крайне затруднительно. Вестфальские правила после Второй мировой войны обрели легитимную институционализацию в формате Устава ООН. Культура отмены в качестве политической технологии эволюционировала, и в западном политологическом дискурсе появились новые попытки кэнселинга государств.
Политическая ксенофобия, осуществляемая во второй половине XX в., была нацелена на отмену «чужих» режимов. Так, в 1990-е гг. укоренилось зонтичное понятие государств-изгоев ( rogue states ) [Орехова 2017: 85]. Впервые в 1985 г. Р. Рейган назвал Ливию, КНДР, Кубу, Никарагуа и прочие государства членами «корпорации убийств». Затем Э. Лейк, советник президента по национальной безопасности в период администрации Б. Клинтона, внедряет в политологический дискурс концепцию стран-изгоев для характеристики государств, которые, по его мнению, пренебрегали международным правом и спонсировали террористические организации. Концепция Э. Лейка была простой, логичной и легко воспринималась либеральными кругами; американцы начали ситуативно использовать данный термин, причисляя к «изгоям» и другие государства, у которых во внешней или внутренней политике проявлялась антиамериканская риторика.
После терактов 2001 г. при администрации Дж. Буша-мл. трактовка стран-изгоев трансформировалась в более узкий круг особо опасных для США государств, получивших название «ось зла» ( axis of evil), в число которых вошли Ирак, КНДР, Иран [Ахмедова 2011: 11]. В стратегии национальной безопасности США 2002 г. «силам зла» противостояли «силы добра», олицетворяющие западные универсальные ценности. Впоследствии к «оси ненависти» в общественной риторике СМИ причисляли и другие государства, не поддерживающие западные универсальные ценности, ставшие своего рода «нормой», отклонение от которой причисляло страну к ряду «изгоев».
Параллельно с встраиванием практик кэнселинга в американскую государственную риторику антиуниверсалистские нарративы продолжили трансформацию в виде неолиберальных теорий [Рустамова, Адрианов 2023: 40]. Своего рода мутацию, например, пережила концепция «мягкой силы», которая по задумке ее идейного вдохновителя Дж. Ная мл., представляла собой механизм достижения национальных интересов посредством привлекательности внешней политики, идеологических ценностей и культуры [Nye 1990: 181]. Однако «красота в глазах смотрящего», а смотрящий может отличаться ценностными ориентирами. В результате возникла дискуссия, предметом которой стало определение аттрактивности государства.
Когда в мировых рейтингах по продвижению «мягкой силы» высокие позиции стали занимать такие страны, как Китай и Россия, продвигающие собственные приоритеты, местами отличные от оригинальных ценностей Ная, связанных с признаками «новой этики», либералами была предпринята попытка концептуализировать дискредитацию «мягкой силы» конкурентов. Так, американские исследователи К. Уокер и Дж. Людвиг выдвинули концепцию «острой силы» (sharp power). Идея напрямую связана с теоретизацией кэнселинга. Сложилась следующая закономерность: демократичное государство, продвигающие либеральные ценности, наращивает потенциал своей «мягкой силы» посредством привлекательности и демократических инструментов, например публичной дипломатии. Авторитарное же государство, к коим причислили Россию, Китай и др., если проецирует свои ценности, то посредством манипуляций и пропаганды.
Другим примером неолиберальной теории, встраивающимся в логику культуры отмены, является концепция «социальной силы» ( social power ). В 2013 г. исследователь публичной дипломатии Питер ван Хам опубликовал работу «Социальная сила в публичной дипломатии», в которой он определяет «социальную силу» как способность государства устанавливать стандарты, создавать нормы и идеалы, которые считаются законными и желательными международным сообществом, не прибегая к принуждению или оплате [Van Ham 2013: 19]. Нормотворческая функция теории стала проводником к практике кэнселинга.
Согласно концепции «социальной силы», если государство демонстрирует противнику его несоответствие общепринятым нормам и стандартам, оно может оценить действия соперника как нелегальные, и такой процесс детальнее объясняется концепцией мягкой делигитимации ( soft disempowerment ), выдвинутой П. Браннаганом [Brannagan, Giulianotti 2015: 706]. В более поздних работах, посвященных мягкой делигитимации, например в статье И. Манора, теория обрастает ключевыми базисами [Manor 2023: 308]. Мягкая делигитимация – это действия или бездействие государства, которые в конечном итоге приводят к озабоченности, оскорбляют или отталкивают других, что приводит к потере доверия и привлекательности. Теория мягкой делигитимации становится безупречной концептуальной иллюстрацией политики «новой этики», а ее преобладающим инструментом – культура отмены.
Попытки легальной дискредитации государств на мировой арене также вписываются в фарватер концепции антибрендинга. Произросла она из теории национального брендинга в маркетинге. В политическом дискурсе национальный антибрендинг был раскрыт Дж. Брауном как продуманная кампания, намеренно проводимая государством с целью дискредитации международного имиджа конкурента и приводящая к сокращению возможностей соответствующей страны транслировать свою «мягкую силу» [Браун 2018: 113]. Практика определять правильным, истинным и привлекательным то, что удобно или выгодно самому, уходит своими корнями в философию позитивизма. К. Поппер, представитель постпозитивизма, некогда выдвинул принцип фальсификационизма, опирающийся на некий критерий рационального согласия. То есть, какой-либо факт или знание принято считать верным и истинным только в случае его одобрения авторитетными учеными и экспертами. В результате западная «новая этика» с инструментарием в формате культуры отмены стала последствием внедрения позитивистских начал из философии науки в политическую практику.
Логическое завершение исследования проявляется в концентрации вышесказанного в виде трех обобщающих выводов. Во-первых, культура отмены невозможна без политики «новой этики», наполняющей общество «универсальными» стандартами, и цифровых ресурсов, создающих каналы, по которым «отмена» распространяется. Во-вторых, культура отмены обладает некой нормотворческой функцией, поскольку через практику кэнселинга утверждаются те или иные субъективные стандарты. В-третьих, интенсификация тенденции на кэнселинг неизбежно приводит к консолидации «отмененных» и порождает появление релевантных теорий по противодействию «отмене». Предполагаемым результатом может стать концепция контркэн-селинга, в которой будут использоваться комплементарные самой «отмене»
инструменты, но направлены они будут, напротив, на сплочение жертв кэн-селинга и популяризацию оппозиционных ценностей. В данном контексте следует упомянуть выдвинутую А.В. Фененко концепцию « антимягкой силы» [Фененко 2020: 66], которая набирает популярность в российской школе международных отношений. Несомненно, «отмененным» государствам, таким, как Россия, стоит анализировать и выдвигать собственные теории, соответствующие государственному курсу, искать варианты интеграции с такими же «пострадавшими» и наращивать потенциал стратегического и информационного суверенитета с параллельным расширением инструментов цифровой дипломатии и налаживанием контактов по линии «второго трека» ( Track-II) [Velikaya 2019: 61].
В заключение представляется важным отметить, что переход к новому – информационному – типу общества обусловил появление метаморфоз в механизмах социального взаимодействия. Такого рода перемены воплотились, в частности, в концепте культуры отмены. Тренд на кэнселинг оказывается в фокусе повышенного внимания как исследователей-международников, так и политтехнологов. С позиции теоретических соображений практика культуры отмены находит отклик в частных неолиберальных теориях, построенных на легализации порицания государств на мировой арене. С прикладной точки зрения необходимо подчеркнуть глубокие исторические корни кэнселинга, применяемые во внешней политике государств в разные эпохи. В современных условиях культура отмены становится одним из инструментов геополитического противоборства государств, а номенклатура сфер, которые подвергаются кэнселингу, постоянно расширяется. Можно прогнозировать, что такой тренд приведет к возникновению более тесного сотрудничества «отмененных» акторов, что является логичной ответной реакцией. Растущая роль культуры отмены как инструмента внешней политики, таким образом, приведет к усилению непредсказуемости в международных отношениях и ухудшению глобальной стабильности.
Список литературы Культура отмены в современном исследовательском дискурсе: теоретические и исторические детерминанты
- Ахмедова Л.Ш. 2011. Стратегия национальной безопасности США в свете событий 11 сентября 2001 года. — Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. № 2. С. 9-13.
- Браун Дж. 2018. Антибрендинг России в американских медиа: освещение сочинской Олимпиады. — Международные процессы. Т. 16. № 2. C. 91-121.
- Грекулов Е.Ф. 1964. Православная инквизиция в России. М.: Наука. 129 с.
- Коктыш К.Е., Ренард-Коктыш А.К. 2021. Когнитивное измерение безопасности. — Международные процессы. Т. 19. № 4(67). С. 26-46.
- Мусалитина Е.А. 2023. Повышение акцептации российской культуры в условиях эскалации культуры отмены. — Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. № 2(66). С. 17-23.
- Орехова В.Д. 2017. «Государства-изгои» как одна из вариаций образа «Другого» во внешней политике США. — Актуальные проблемы современных международных отношений. № 10. C. 83-89.
- Плутарх. 1994. Перикл. — Сравнительные жизнеописания в двух томах. Т. II. 2-е изд., испр. и доп. М.: Наука. С. 15-17.
- Рустамова Л.Р., Адрианов А.К. 2023. «Культура отмены»: концептуализация понятия и его использование во внешней политике. — Полис. Политические исследования. № 4. С. 37-53.
- Рустамова Л.Р., Иванова Д.Г. 2023. «Культура отмены» в отношении России и способы борьбы с ней. — Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Политология. Т. 25. №2. С. 434-444.
- Суриков И.Е. 2005. Институт остракизма в античной Греции: к общей оценке феномена. - История и современность. № 2. С. 113-130.
- Топилина А.В. 2023. Культура отмены как репрессивный инструмент «новой этики». - Философия права: научно-теоретический журнал. Ростов н/Д. № 2(105). С. 204-211.
- Фененко А.В. 2020. Анти-мягкая сила в политической теории и практике. -Международные процессы. Т. 18. № 1(60). С. 40-71.
- Чугров С.В. 2022. Культура отмены в мировой политике: историко-философские корни. - Полис. Политические исследования. № 5. С. 88-98.
- Щенина О.Г. 2023. «Культура отмены» в политическом дискурсе: множественность форм и возможности исследования. - Вестник Института социологии. Т. 14. № 4. C. 112-127.
- Brannagan P., Giulianotti R. 2015. Soft Power and Soft Disempowerment: Qatar, Global Sport and Football's 2022 World Cup Finals. - Leisure Studies. Vol. 34. No. 6. P. 703-719.
- Manor I. 2023. It's a Mad World. - The Routledge Handbook of Soft Power. P. 304313.
- Noelle-Neumann E. 1974. The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. -Journal of Communication. Vol. 24. No. 2. P. 43-51.
- Norris P. 2023. Cancel Culture: Myth or Reality? - Political Studies. Vol. 71. No. 1. P. 145-174.
- Novelli C. 2023. Cancel Culture: An Essentially Contested Concept? - Athena -Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization. Vol. 3. No. 1. P. 1-5.
- Nye Jr. J.S. 1990. The Changing Nature of World Power. - Political Science Quarterly. Vol. 105. No. 2. P. 177-192.
- Van Ham P. 2013. Social Power in Public Diplomacy. - Relational, Networked and Collaborative Approaches to Public Diplomacy. The Connective Mindshift (ed. by R.S. Zaharna, A. Arsenault, A. Fisher). Routledge, Oxon. P. 17-28.
- Velikaya A.A. 2019. Russian-U.S. Public Diplomacy Dialogue: a View from Moscow. - Place Branding and Public Diplomacy. Vol. 15. No. 1. P. 60-63.