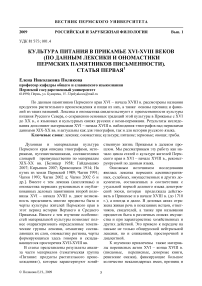Культура питания в Прикамье XVI-XVIII веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности). Статья первая
Автор: Полякова Елена Николаевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 1 (1), 2009 года.
Бесплатный доступ
По данным памятников Пермского края XVI - начала XVIII в. рассмотрены названия продуктов растительного происхождения и пищи из них, а также основы прозвищ и фамилий из таких названий. Лексика и ономастика свидетельствуют о преемственности культуры питания Русского Севера, о сохранении основных традиций этой культуры в Прикамье с XVI до XX в., о языковых и культурных связях русских с коми-пермяками. Результаты исследования дополняют материалами XVI - начала XVIII в. наблюдения этнографов над пермскими данными XIX-XX вв. и актуальны как для этнографии, так и для истории русского языка.
Лексика, ономастика, культура, питание, зерновые, овощи, грибы
Короткий адрес: https://sciup.org/14728734
IDR: 14728734 | УДК: 81?373;
Текст научной статьи Культура питания в Прикамье XVI-XVIII веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности). Статья первая
Духовная и материальная культура Пермского края описана этнографами, историками, путешественниками, составителями словарей преимущественно по материалам XIX-XX вв. [Белицер 1958; Гайдамашко 2007; Кирьянов 2007; Кривощеков 1914; На путях из земли Пермской 1989; Чагин 1991; Чагин 1993; Чагин 2002 а; Чагин 2002 б и др.]. Вместе с тем лексика (апеллятивы) и ономастика пермских рукописных и опубликованных деловых памятников второй половины XVI – начала XVIII в. дают возможность представить многие предметы быта и черты культуры жителей Пермского края в этот период истории Верхнего и Среднего Прикамья. Вместе с тем изучение особенностей материальной культуры позволяет полнее охарактеризовать определенные тематические группы лексики, семантику составляющих их слов, ономастику региона, черты формирующихся здесь говоров и складывающегося просторечия XVII-XVIII вв.
В статье представлены результаты анализа части материалов (тематическая группа «Питание: продукты растительного происхождения»), которые характеризуют хозяй-
; культура; питание; зерновые; овощи; грибы.
ственную жизнь Прикамья в далеком прошлом. Мы рассматриваем эту работу как начало цикла статей о культуре жителей Пермского края в XVI – начале XVIII в., реконструируемой по данным языка.
Основным источником исследования явилась лексика пермских административных, судебных, имущественных и других документов, составленных в соответствии с узуальной нормой делового языка допетровской эпохи, которая продолжала действовать в Прикамье и в начале XVIII в. (до 1710 г.), а иногда и далее. В деловых актах отражена живая речь в показаниях истцов, ответчиков, свидетелей, а также при назывании предметов быта в различных описях имущества и при характеристике хозяйственных и других действий. Это привело к передаче на письме не только общерусской нейтральной лексики, но и сниженной, просторечной и диалектной.
К изучению привлечены также материалы переписных актов XVI – конца XVIII в. (писцовые, переписные, дозорные книги, ревизские сказки), фиксирующие большое количество некалендарных имен, прозвищ и
образованных на их базе фамилий жителей Пермского края. Основой этих именований являлись апеллятивы – слова нарицательные. Ономастика переписей послужила источником восстановления лексики, употреблявшейся в живой речи, но не попадавшей в тексты документов. Реконструированная лексика нередко характеризует такие детали быта, которые не описаны в памятниках апеллятивами.
Основным источником пермской ономастики послужили те же документы, какие дали свод исследуемой лексики. Пермская лексика и ономастика представлена в составленных автором данной статьи «Словаре пермских памятников XVI – начала XVIII века» (далее СПП) и «Словаре пермских фамилий», (СПФ), а также в картотеках этих словарей.
Семантика исследуемой лексики устанавливается обычно на основе контекста, в котором употреблено анализируемое слово. Для уточнения значения слов проводится также сопоставление с материалами этнографических исследований и современных пермских (Акчим; СГТ; СПГ; СРГКПО) и других диалектных словарей, в частности обобщающего «Словаря русских народных говоров» (СРНГ), в котором использована помета Перм . – ‘пермское’ для характеристики лексики Верхнего и Среднего Прикамья. Особое внимание уделяется данным диалектных словарей говоров Русского Севера (АОС, СГРС), явившихся источником живой речи Прикамья, а также среднеуральских говоров (СРГСУ, СРГСУ-Д), генетически связанных с пермскими.
Большую часть населения Пермского края в XVI – начале XVIII в. составляли крестьяне, государственные в Перми Великой, Соли Камской, Кунгурском и Осинском уездах и относящиеся к владениям именитых людей Строгановых. Крестьяне проживали в деревнях, погостах (селах), городках и острожках, в формирующихся в XVI-XVII вв. городах Чердыни, Усолье Камском (Соли Камской), Кунгуре. Быт других жителей городов (ремесленников, служителей церкви, подьячих, писчих дьячков, купцов, стрельцов (позднее солдат) и иных групп населения почти не отличался от быта крестьян. И бы- товая лексика практически для всего населения была общей.
Русская речь могла звучать в Пермском крае с XII-XIV вв. В XV в. Пермь Великая входит в состав Московского государства, к концу XVII в. на территории Прикамья, судя по переписям и исследованиям историков, преобладало русское население. Вместе с тем русские проживали здесь в контакте с коми и шло активное взаимодействие русской речи с коми-пермяцкой, о чем свидетельствуют слова финно-угорского происхождения в русских текстах XVI-XVII вв. [Полякова 2008 а] и говорах XIX-XX вв. [Полякова 2008 б]. Взаимодействие привело к обогащению лексики каждого из языков, особенно в области бытовой лексики.
В питании жителей Пермского края XVIXVIII вв. существенную роль играли продукты из выращиваемых здесь же зерновых культур. Еще до появления русских в Прикамье существовало подсечное земледелие, которое у коми-пермяков имело относительно высокий уровень, о чем свидетельствуют исследования историков и этнографов [На путях, 1989: 92], а также топонимия Перми Великой. Так, в чердынских памятниках XVII-XVIII вв. отмечаются коми-пермяцкие географические названия, содержащие в своем составе формант - ыб (- иб , - еб ) из слова ыб ‘поле; засеваемое поле’: Касиб ‘Поле Кошки’, Катасыб ‘Поле на склоне’, Лызиб ‘Хвойное поле’, Нияиб ‘Поле у лиственницы’, Ураеб ‘Беличье поле’. Ср.: Земля на Курсибе на мысу [ Уд : 237]2, Досталось на Ния(и)бе треть полосы… Пожня под Ния(и)бом [ ЧМ 2561: 3], Шутем 3 званием на Ураебе [ ЧМ 2558: 5], Шутем званием на Бастрыбе [ ЧМ 2558: 13], Пожня 4 на Ката-сыбе [ Уд : 237]. Некоторые из названий полей перешли в ойконимы расположенных рядом поселений: деревни Нырыб ‘Поле Носа’, Ручиб ‘Поле Лисы’ [ Я : 24, 29], Вилиб ‘Новое поле’, Ижиб ‘Поле Овцы’ [ КЧ : 77, 80] и другие.
Вместе с тем с приходом русских шло дальнейшее развитие земледелия: переход к трехполью, к регулированию удобрения и т.д. Появлялись и русские названия угодий со словами поле (Большое поле, Дубовое поле, Кляпово поле, Мягкое поле, Култаево поле), многие из которых также дали ойкони- мы, ср.: деревни Большое Поле, Мягкое Поле, Дубовое, Кляпово, Култаево [Пермская область 1963: 447-475].
Земледелие в Прикамье было сопряжено с постоянным отвоевыванием пахотной земли у леса. Приходилось разрабатывать чертежи – участки, на которых был сведен лес. Чтобы освободить от деревьев участок под пашню, на нем чертили лес, т. е. подчерчивали каждое дерево, нанося черты ударом топора и разрушая кору вокруг всего ствола, ср: Чертеж против Березова острова над Камою а подчерчиван вязник и осинник и всякий лес 5 [ Ш 3: 201], Чертил отец мой… лес для пахоты в Кунгурском уезде на Большом поле [ КЗСИ : 475]; Чертил мое займище Григориево на Бубыльской дороге со встоку Онания чертил и прицыщал 6 [ Уд : 238].
На таком подчерченном участке деревья высыхали, вымерзали, их сжигали и засевали землю, иногда бросая зерна в еще теплую золу, что сокращало период созревания растений. В первый год урожай на таком участке был очень высоким, но затем он снижался, через 5-7 лет поле оставляли незасеянным, т.е. оно уходило в перелог7, становилось шутемом.
Чертежи были распространены на территории и Верхнего, и Среднего Прикамья, их русское название чертеж укрепилось и в коми-пермяцком языке [КПРС: 533], вытеснив во многих местах коми синонимы тыла и воль . В Пермском крае возникали деревни с названием Чертеж [СГТ: 400], первая из которых отмечена Иваном Яхонтовым на реке Боровой в писцовой книге по Перми Великой 1579 г. [ Я : 10 об.]. Сохранилось много микротопонимов, образованных от термина чертеж : луг Чертеж в селе Вильгорт, поле Чертеж на реке Уролка, поле Чертежи у села Карагай и т.д.
Земледелие было осложнено не только большими затратами труда на подготовку участков, но и суровым климатом, особенно на севере края, в Перми Великой. Сохранилось несколько документов из Ныроба (старое название – Нырыб), в которых жители просят отменить подати: У нас место украй-ное Подкаменное8 самое студеное хлеб мало родится и морозом озябает по вся годы [Ш 3: 791]. Тем не менее в XVI-XVIII вв. зерно- вые растили по всему краю и слово хлеб постоянно попадало в документы.
Земледельческая лексика в Перми Великой складывалась на основе говоров Русского Севера (ныне Архангельская и Вологодская области), так как именно оттуда шел основной поток крестьянской миграции в Верхнее Прикамье. Об этом свидетельствуют многочисленные пермские прозвища, а затем возникшие на их базе фамилии: Бело-слудец – переселенец из Белой Слуды на Северной Двине, Вологжанин – из Вологды, Двинянин – с Северной Двины, Колмогоров – из Холмогор, Мезенец – с реки Мезени, Пи-нежанин , Пенягин – с реки Пинеги и т.д. [СПФ].
В Прикамье XVI-XVII вв., как и на Русском Севере, лексика, обозначающая вспахивание земли, была образована от глагола орать ‘пахать землю’: оранина , ораный , оранье , взораный , взорать , переарывать . Ср.: В их чертежах явилось старой оранины и вновь взорано по смете переездов десять [ КЗСИ : 439]; Подал челобитную я сирота твой Васька на него Ивашка в насильстве в оранье в перемене … и тою ораною землею владеть мне Ваське [ КЗСИ : 2]; По речке Кызгану взораных земель, что взорали кун-гурцы [ КЗСИ : 439]; В земли после сего друг к другу не вступатца… и меж не переары-вать [ КМ : 66].
Глагол пахать пришел в Прикамье с деловым языком в официальных текстах, где употреблялся в оборотах пашню пахать ‘владеть пашенной землей и платить подати в соответствии с этим владением’, пашенный крестьянин ‘владелец земли под посев’, бес-пашенный (непашенный) крестьянин ‘лицо, не владеющее пахотной землей’, хлеб пахать ‘выращивать зерновые’, ср.: Говорил он Федька что де он половничает и хлеб пашет исполу [Полякова 1979: 54]. Семантика глагола пахать хорошо видна в отрывке из кунгурского акта 1687 г.: Пахать исполу: посеяти нам исполшиком9 вешнего севу ярового всякого хлеба 10 переездов… и тот хлеб нам исполшиком ять… никакого хлеба не обронить и скотом не стравить и под снег не пустить и в клады скласть сухо и в кладях тот хлеб обгородить [КА: 130]. Таким образом, пахать в данном тексте означает ‘вырастить хлеб, собрать его, сберечь от по- травы скотом, от мороза, сложить в клади, которые следовали обгородить’.
В живой речи жителей Прикамья у глагола пахать лишь постепенно утверждается значение ‘взрыхлять землю под посев’. Он вытесняет синоним орать , хотя последний употребляется в речи старшего поколения в сельской местности до настоящего времени [Акчим. сл. 3: 120; СПГ 2: 47: СРГКПО: 171].
Все названия зерновых культур в пермских памятниках являются общерусскими. Общим названием для них было слово хлеб , вместе с тем оно зафиксировано с разной семантикой. Хлебом называли 1) зерновые культуры (рожь, пшеницу, овес, ячмень) на корню: Потравили скотом своим насевного моего хлеба в бору ржи… и пшеницы озимо-вой без четверти сороковой переезд [ КЗСИ : 444]; 2) сжатые зерновые культуры: Досматривал на поле… сжатого немолоченого хлеба ржи в кладе… и хлеб на овине насажен [ КЗСИ : 814]; 3) зерно: В клети хлеба ржи четверик да овса два четверика [ КСАУ : 123]; 4) выпеченный хлеб: Покрали у меня неведомые воровские люди на поле из стану мешок холщевый с хлебом печеным [ КЗСИ : 159]; 5) одна штука (буханка, каравай) испеченного хлеба: Он де Федор ему Конану на дорогу дал два хлеба ярушников [ КЗСИ : 797].
Многозначным является и образованное от него прилагательное хлебный , отмечаемое в сочетании с различными существительными, ср.: хлебный извоз, хлебный недород, хлебная потрава, хлебное жалованье, хлебные запасы, хлебный бус, хлебное вино, хлебная пахота, хлебный анбар, хлебные полки, хлебные магазины, хлебный струг, хлебная квашня, хлебная память (документ) и др. [СПП 6: 81].
В Прикамье выращивали такие зерновые культуры, как рожь, пшеница, ячмень и овес: А как бог подаст и та нам рожь пожати вместе [ Уд : 237]; Он истец ему Еремке семенного хлеба ржаного … не давал [ КА : 136]; Пахать и сеять орженой и яровой хлеб [ КА : 150]; Потравили скотом насевно-го моего хлеба… пшеницы озимовой 2 четверти [ КЗСИ : 444]; Репишо засеять ячменем [ КМ : 37]; У меня Михаила Бабинова полтора переезда овса съели по смете 5 овинов [ КЗСИ : 328].
Климатические условия Перми Великой требовали посева наряду с яровыми озимых культур, и в деловых документах с помощью слов озимовой , озимый , озимое , озимь и яровой , яровое , ярица , постоянно уточняется, о каких зерновых идет речь. Озимой культурой была рожь, противопоставляемая в документах остальным, яровым культурам: Того хлеба моей половины ржи 20 четвертей да ярового хлеба ярицы ячмени и овса 16 четвертей [ КА : 135]; На монастырской земле монастырских семян сеять озимого ржи по мере а ярового овса и ячмени по две меры [ ГКЭ 17: 11261]. Рожь называли озимью и ржаной озимью : Насевной озими и пшеницы озимовой переезда з два [ КЗСИ : 121]; Досматривал на поле… насевной ржаной озими пеезда з два [ КЗСИ : 814]. Однако в памятниках отмечается и озимая, озимовая пшеница : Потравили у меня… на поле насевного нежатого хлеба переезд ржи да переезд пшеницы озимовой [ КСАУ : 201]; В кладях с овин ярицы с овин озимой пшеницы [ КЗСИ : 121]. Ярица в последнем тексте противопоставлена озимой пшенице . Ярицей называли яровую пшеницу в отличие от других яровых культур: В клети хлеба… ржи четверик ярицы полтретья четверика ячмени полтора четверика [ КА : 4]; Ярового хлеба ярицы ячмени и овса 16 четвертей [там же]. На поле в кладях с овин ярицы с овин озимой пшеницы [ КЗСИ : 121].
Изредка пшеницу в пермских текстах характеризовали как летнюю или зимовую : Овина з два ячмени с овин пшеницы летней [ КЗСИ : 121]; Насевного хлеба пшеницы зи-мовые по смете четыре овина [ КСАУ : 204]. Слово зимовой в таком употреблении ( зимо-вая рожь ) отмечается в других русских памятниках и в историко-лингвистическом словаре [СлРЯ XI-XVII вв. 5: 391], но слово летний в характеристике хлеба не встретилось в других памятниках и отсутствует в этом словаре. Вместе с тем оба слова отмечаются в говорах XIX-XX вв. [СРНГ 3: 279; СРНГ 17: 18]. Это дает основание считать слова летней и зимовой в характеристике зерновых попавшими в пермские тексты из живой речи, из говоров. При редактировании документов писцы обычно заменяли их принятыми в деловом языке словами яровой и озимой .
Посев яровых называли словосочетанием вешний сев или словом вешная : Посеяти нам исполшиком вешнего севу ярового всякого хлеба 10 переездов сороковых [ КА : 130]; Прежний муж ея Федосьицын на ево Еф-ремкове лошаде вешную сеял [ КА : 125]. В пермских говорах XIX-XX вв. в таком значении отмечается слово вёшна [СПГ 1: 94].
Зерновые в Прикамье XVI – начала XVIII в. мололи на мельницах разного вида: Да тое ж деревни Сереговы мельницы колотовки на ручью [ К : 61]; Сожгли у меня мельницу мутовку на речке Березовке [ КСАУ : 1009]; Мельница на ручью мутовочная мелет хлеб [АПМ: 61 об.]; На той речке на Толыче ему Богдану поставить мельницу мутовчатую [ Ш 2: 164]; Посадц-кого человека Андрея Клестова на речке на Черной мельница немецкое колесо [ Я : 6].
В писцовых и переписных книгах XVIXVII вв. помимо населенных пунктов отдельно отмечаются как поселения мельницы: Да на реке ж на Усолке 2 мельницы ко-лесныя а оброку с них три рубли [ К : 140]. Обслуживали мельницу мельник и засыпка ‘работник на мельнице, подносящий мешки с зерном и засыпающий зерно для помола’: Двор монастырской где живет мельник и засыпка [ АПМ : 167]. Слово засыпка дало фамилию Засыпкин и сохраняется в пермских говорах до настоящего времени: Мельник был и засыпка . Засыпка он как помощник, он примет зерно, он сосчитат [СРГКПО: 105].
В пермских материалах много текстов, в которых упоминаются продукты, полученные из злаковых культур ( мука , крупа , толокно , солод ) и используемые для приготовления пищи. Чаще всего упоминается мука : Унесли с той мельницы два четверика муки ржаной неведомо хто [ ЧА : 144]; В мешках три осмины муки пшенишной … згорело в мешках три осмины муки пшенисной [ КЗСИ : 1009]; Четверть муки овсяной … осмина муки яшной [ КСАУ : 698].
В процессе работы на мельнице появлялась мучная пыль – бус , который собирали и использовали как муку: Привели в Чердын-скую приказную избу… с поличным з бусом хлебным Офонку да Пантелейка Розепиных [ Ар . к. 6: 1421]; Привод… с покраденным хлебным бусом Петрушки Игумнова [ РСЧ
8:44]. Это слово отмечается в диалектных словарях пермских говоров XX в.: В войну-то зерна мало было, так мы когда его молотили, весь бус , пыль мучную, со стенок сметали, дак потом хлеб пекли из нее [СПГ 1: 67]; Раньше хлеб-от пекли, сеяли муку – дык полным-полно на стенках бусу -то наса-дится [Акчим. сл. 1: 101]. От него образованы синоним бусенец и глагол бусить ‘распространяться в виде мельчайшей пыли’ [там же]. Из русских говоров Прикамья слово попало в коми-пермяцкий язык: бус ‘мельничная пыль’ [КПРС: 47].
До настоящего времени слово бус не найдено в русских памятниках других территории России. Оно не зафиксировано в «Словаре русского языка XI-XVII веков», а в «Словаре обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков» отмечено только по чердынским документам [СОРЯМР 1: 310]. Оно является диалектным в настоящее время [Архипенкова 2007: 71]: в «Словаре русских народных говоров» зафиксировано только в вятских, пермских и сибирских диалектах, в которых отмечаются также образованные от бус ‘мучная пыль’ синонимы бусок и бусь [СРНГ 3: 307, 308], слова бусиха ‘мельница’, бусовик ‘сторож на мельнице, заметающий и хранящий мучную пыль’ [СРНГ 3: 302, 305], словосочетания бусовитое сито и бусовое сито [СРНГ 3: 306].
Источником исследуемого слова в Прикамье были говоры Русского Севера (архангельские), в которых зафиксированы бус, бу-сица , бусок ‘мучная пыль’, бусак ‘ковш для пива’, бусник и бусовик ‘хлебное изделие из мучных высевок или отходов от помола’ или ‘пирог из гороховой муки’, бусной ‘предназначенный для муки’ [АОС 2: 185-187; СГРС 1: 226, 229].
В Пермском крае широко использовались ячневая (из ячменя) крупа и овсяное толокно: В том анбаре запечатано… полосмины круп яшных [ КА : 262]; У него Якова на Кунгуре в дому хлеба пшеницы и ржи и муки ржаной и круп яшных [ КЗСИ : 358]; Да вместо круп и толокна дватцеть две четверти ржи [ Ар . к. 3: 933].
В приготовлении пищи и напитков использовался солод, полученный из проращенных, высушенных и размолотых семян злаков: Осмина муки яшной полосмины солоду немолотого [КСАУ: 698]; Полторы ос-мины солоду молотого [РГАДА 829: 1001]. В памятниках упоминаются солодовни, в которых проращивали семена, и процесс изготовления солода – солодорощение: Да за монастырем же солодовня ростят в ней хлеб на монастырский обиход на квас [АПМ: 61 об.]; Всяких мелких промыслов квасу сусла масла конопляного и коровья ветчинного сала солодорощения… на откуп не давати [АПМ: 158].
В XVI – начале XVIII в. мерой сыпучих тел, в частности муки, круп, толокна, молотого солода, была кадь [СлРЯ XI-XVII вв. 7: 13]. В пермских памятниках, когда идет речь о зерне, обычно фиксируются части этой меры – третник , четверть , четверик, четь, осмина или их части: За 307 четвертей с полуосминою и за полчетверика и за малый третник круп и толокна [ Ш 3: 489]; В том анбаре четверть пшеницы яровой [КЗСИ: 128]; Осмина муки яшной [ КСАУ : 698]; 3 осмины овса полосмины пшеницы полос-мины круп ячных [ КА : 252]; Полполполчет-верик муки ржаной [ Ш 2: 441].
Но на севере Пермского края в середине XVII в. для измерения муки и круп использовали такую меру сыпучих тел, как позмог : Пшеницы же семенной 6 позмог да на нем же Пимене взяти муки позмог пшеничные [ Уд : 237]; Ржи три позмоги да хмелю полбезмена да ячменю позмог [ Уд : 238]. Все случаи употребления этого слова записаны от жителей чердынского погоста Цыдвы.
В этом же значении cлово отмечается лишь в одном из северных русских актов: Собрали крупы и толокна… обоего пополам, в вес в государев железной позмог ... Всякая четь мука и крупы и толокна в вес в государев железной позмог в пять пуд (СлРЯ XIXVII вв. 16, 118).
Вместе с тем в пермских текстах 1623 г. оно встречается и в совершенно ином значении – как географический термин или топоним: Пожня на усть речки Усолки, а межа от Усолки-речки, от Лиханкины пожни, с нижную сторону от Позмога да с нижную ж сторону от Панкратовские пожни. Попытки установить этимологию слова позмог, найти однокоренные слова в каких-либо источниках привели пока только к обнаруже- нию в коми-зырянском (удорском) говоре глагола позмцгасьсьыны ‘застрять, задержаться где-либо’ [ССКЗД: 290]. Эта семантика глагола дает возможность рассматривать как связанные два разных значения слова позмог в пермских текстах: 1) емкость, в которой остается (застревает) при измерении часть сыпучих тел; определенное количество, мера сыпучих тел; 2) то, в чем застревает (утопает, увязает) кто-либо, т.е. топкое место. Их связывает общая сема ‘застревать’. По-видимому, слово позмог коми происхождения.
Обычно заимствованные русскими в XVI-XVII вв. коми слова отмечаются в настоящее время и в коми-пермяцких, и в коми-зырянских говорах: шором 10, шутем и др. Слово позмог , судя по источникам исследования, либо попало к русским из коми-зырянского языка, либо существовало в прошлом и в коми-пермяцких, однако со временем исчезло.
В пермских памятниках XVII – начала XVIII в. представлены названия пищи, приготовленной из продуктов, полученных из зерновых. Хлеб округлой формы называли колачем : Паворозы11 ему дала выняв из при-стена татарка девка Кулпика и говорила она ему чтоб он шел и заложил на колачех … принес к ней паворозы шелковые и дал ей в закладе в копеешном колаче [ КА : 10].
Другое название такого хлеба – челпан : Взял два челпана хлеба [ КСАУ : 566]; Несла челпан хлеба [ КСАУ : 708]. Это слово было распространено на широкой территории в Пермском крае и сохранилось в современных русских говорах: Челпаны на руках помесишь, потреплешь и на доску… Оне все из оржаной муки [СПГ 2: 524]; Раньше челпа-ны из пшенисной муки пекли, счас хоть из какой… К жениху-то невесту везут, ей дают от жениха-то родители хлеб- челпан [СРГКПО: 258]. Слово заимствовано из коми-пермяцкого языка ( човпан ‘каравай’ [КПРС: 540]), отмечается в коми-зырянских говорах ( чцвпан , чцлпан ‘каравай, коврига’ [ССКЗД: 417]) и, возможно, восходит к пра-пермскому языку [КЭСКЯ: 310].
Существовали и другие названия печеных или жареных хлебных изделий. К сожалению, они не попали в тексты как слова нарицательные, но об употреблении их сви- детельствует ономастика. В XVI-XVII вв. появлялись прозвища людей метафорического характера, возникшие в результате сравнения человека с каким-либо предметом. Многие из них легли в основу формирующихся в этот период семейных именований – фамилий. В основе пермских фамилий оказалось немало «хлебных» именований, либо данных полным людям, либо образованных в каких-то особых ситуациях, связанных с хлебными изделиями. Ср. зафиксированные в пермских памятниках фамилии Алябышев, Блинов, Житнухин, Житнушкин, Капустников, Катышев, Ковригин, Короваев, Козулин, Колобов, Кулебакин, Левашов, Лепехин, Лепешкин, Мякишев, Мяконькин, Мя-котников, Оладнев, Пирогов, Пирожков, Пресняков, Прянишников, Пшенишников, Пыжов, Репников, Ситников, Соковнин, Сыромолотных, Шаньгин, Ягодников [СПФ].
Апеллятивы, ставшие основой этих фамилий, употребляются в пермских говорах до настоящего времени. Часть их называла печеный, обычно круглый хлеб разной величины, ср.: алябыш – Алябыши из солоду замешаны в печи испекены… Я тебе привезла два алябышка на квас, [СПГ 1: 10]; катыш ‘колобок’ [СРНГ 13: 137]; коврига – Ныне ведь ковригами хлеб-от продают, в магазинах-то, и стряпать не надо бабам [СПГ 1: 399]; коровай ‘каравай’; мякиш ‘булка’ [СРНГ 19: 78]; мяконьки ‘хлеб из мелко смолотой муки’ – Стала мяконьки катать, по сусекам собирать [СПГ 1: 534]; мякотник ‘хлеб из ржаной или овсяной муки’ [СРНГ 19: 80]; пресняк ‘печеное изделие из пресного теста’ [СРНГ 31: 93]; пшеничник – На праздник пшеничники пекли. Пшеница-то белая, а белый хлеб только ко празднику пекли [СПГ 2: 250]; ситник ‘хлеб из просеянной ячменной муки’ [СРНГ 37: 354]. Из теста и пекли, и жарили блины , оладьи , лепешки . Готовили к праздникам пряники и козули , козу-лечки ‘рождественское печенье в виде фигурок животных’ – Козулечки настряпают – и рога, и хвостик, и ножки выстряпают’ [СПГ 1: 401].
Пекли пироги и пирожки с разной начинкой, ср.: пирог, лепеха ‘пирог’ [СРНГ 16: 362]. Название пирога зависело от названия его начинки, ср.: капустник ‘пирог с капустой’ – Я люблю капустники, стряпаем их частенько. Свежую капусту изрубишь, кипятком заваришь, отожмешь горесть-ту, сметанки добавишь; тесто изладишь [СПГ 1: 377]; репник (рипник) ‘пирог с репой’ – Поешь пироги-рипники. Правда масло замерзло на них уже [СПГ 2: 289]; соковой пирог ‘пирог, испеченный из теста, замешанного на «соке» - осадках перетопленного сливочного масла’ – Соковые пироги хорошие, вкусные [Акчим. сл. 5: 113], соковина ‘пирог с конопляным семенем’ – Вкусная соковина ноне вышла [СРГСУ 6: 38].
Неудачный пирог или другое мучное изделие называли кулебакой : Кулебака – которой не удастся хлеб-от. Пирог сёдни у меня кулебака вышел [СПГ 1: 449]. Такой хлеб получался иногда из сыромолотой (сыромолотной) муки, т.е. полученной без предварительной сушки зерна в овине – Сейчас почему хлеб плохой? Потому что мука-то сыромолотная [СПГ 2: 430].
Пекли пыжи – пирожки из смеси различной муки [СРНГ 33: 187], пирожки с ягодами – леваши , левашки [СРНГ 16: 306], шаньги с кашей, ягодами, творогом: житнуха ‘ватрушка из ячменной муки’ [СРНГ 9: 192]; шаньга ‘печеное изделие в виде ватрушки или лепешки’: Налевка для шанег быват… из каши, из заспы [СПГ 2: 541]; ягодник ‘шаньга ягодная’: Ягодник стряпали, рост-реплешь тесто на жаровнике, польешь ягодами, вареньем. То же самое звали шаньга ягодная [СПГ 2: 570].
В пермских памятниках упоминаются некоторые предметы, используемые при подготовке теста и изделий из него: сельница ‘деревянный лоток, на который сеют муку и на котором раскатывают тесто’, сито , квашня, решето : Посуды две кади сельница сито квашня [ КЗСИ : 358]; блинная сковорода : В онбаре … топор дроворубный сковорода блинная [ КЗСИ : 123].
Фамилии XVI-XVIII вв. ( Колобов , Опарин , Пирожников , Сподобин ) и сопоставление с данными диалектов XIX-XX вв. дают возможность реконструировать названия предметов и продуктов для подготовки хлебных изделий и дополнить список лексики XVI-XVIII вв.: опара ‘закваска для тес-та’: У нас на огороде все как на опаре киснет – добрая земля [СПГ 2: 43]; колоб ‘ком, скатанный из теста’ [СРГСУ 2: 38]; пирожник
‘скалка для раскатывания теста’: Раскатывают тесто пирожником . Пирожник делается из дерева, ручки маленьки, тонкие, чтобы держатся было ладом, а в середине толстый, чтоб раскатывать можно [Ак-чим. сл. 4: 45]; сподоба ‘сдоба, молоко, масло, яйца и т.п., добавляемые в тесто для вкуса’ [СРГСУ-Д: 515].
Фамилии Лапшин и Пельменев [СПФ: 210, 286] свидетельствуют об употреблении пищи из вареного теста ( лапша , пельмень ). Заимствование из коми-пермяцкого языка пельмень , образованное из слов пель ‘ухо’ и нянь ‘хлеб’ («хлеб в виде уха»), подверглось при вхождении в русские говоры Прикамья фонетическим изменениям. В части нянь Н > М, а гласный А после мягкого согласного под ударением перед мягким согласным перешел в Е, как в русских диалектных словах грезь ( грязь ), опеть ( опять ). Однако в XVIIXVIII вв. процесс адаптации слова пельнянь , видимо, еще не завершился: в пермской ономастике отмечается и фамилия Пельле-нев [СПФ: 286]. Слово пельмень еще не утвердилось в русском языке, его не отмечает «Словарь русского языка XI-XVII вв.». Не исключено, что пермская (кунгурская) фамилия Пельменев, записанная в 1686 г. ( Житель города Кунгура Федотко Пельменев [ КА : 117]), является самой ранней фиксацией основы пельмень в русской письменности.
Пельмени с древности были распространены в Прикамье, они были удобной пищей для охотников, зимой уходивших на промысел надолго и далеко. Можно было быстро растопить на костре снег в котелке ( котлике : Котлик медной ветхой красной меди [ КЗСИ : 814]) и сварить пельмени, которые были сытной пищей из хлеба и мяса одновременно.
Однако, судя по исследованиям материалов XIX-XX вв. [Чагин 1991: 77] и современному приготовлению пельменей в Прикамье, их делали не только с мясом, но и с рыбой, капустой, редькой, репой, грибами, творогом. Видимо, так было и в XVI-XVIII вв.
Крупы (в памятниках, преимущественно ячневая) использовались для приготовления каш. Однако словом каша называли не только пищу, сваренную из крупы, но и продукты питания в целом (преимущественно кру- пы и муку): Где ему старцу жить построить келью и кашу и одежду и питие давать ему им земским старостам с мирскими людьми [Ш 51: 222].
В памятниках отмечается слово кашевар ‘повар’ ( До Перми генваря с числа найму три рубля дватцать алтын с денгою послом по четыре денги человеку кашеваром их по три денги человеку на день [ Ар . к. 2: 708]) и фамилии Кашев, Кашин, Кашкин, Кашеваров [СПФ: 160] и Густокашин [СПФ: 108] и прозвище Мерзлая Каша: Крестьянин деревни За Осиновым Федька Иванов сын Мерзлые Каши [ Е : 123].
Фамилия Саламатов [СПП: 314] свидетельствует об употреблении каши из муки, ср.: саламата ‘жидкий кисель, мучная каша, болтушка’: Пойду-ка саламату заварю [СПГ 2: 314]. Фамилия Сальников [СПФ: 333] могла быть образована из многозначного слова сальник , одно из значений которого (‘овсяная каша с маслом или с салом’) отмечено в архангельских и вологодских говорах [СРНГ 36: 68], связанных с русской речью Перми Великой.
С мукой или крупой могли варить жидкое кушанье (род супа): року (ср. фамилию Рокин) ‘похлебку с крупой’ или ‘похлебку из ржаной муки с рыбой’ [СРНГ 35: 3], репню (ср. Репнин) ‘похлебку из рубленой репы с крупой или мукой’ [СРНГ 35: 72], бебеню (ср. Бебенин) ‘жидкое кушанье из солода’ [СРНГ 2: 168]. Эти названия не зафиксированы в современных пермских говорах, но они отмечаются в других севернорусских источниках.
Распространенным кушаньем была тюря (ср. пермскую фамилиюТюрин [СПФ: 388]) ‘хлеб или сухари, корки, покрошенные в воде с солью; хлебная окрошка на квасу, ино с луком’ [Даль 4: 451].
Возникшие в Прикамье фамилии Кулагин и Сырчиков [СПФ: 202, 368] говорят о приготовлении в XVI-XVIII вв. изделий из муки или крупы с яйцами, сметаной и другими продуктами, ср. в современных пермских говорах: кулага ‘тестообразное кушанье из ржаной муки и солода (иногда с ягодами)’: Кулага – это замешают просяной солод, не шибко густо; иногда клюкву бросят [СПГ 1: 448]; сырчик ‘мучное изделие в виде шариков из творога, яиц, сметаны’ [СРГКПО:
235]. Однако слово сырчик называло в коми говорах птицу трясогузку и могло попасть в пермскую антропонимию в этом значении.
Лексика и ономастика памятников донесли до нас только часть названий различной пищи из муки и крупы, но и эта часть свидетельствует о широком употреблении злаковых культур. Они играли существенную роль и в приготовлении напитков ( кваса , гущи , браги , пива , вина ).
Большое место в питании жителей Пермского края XVI-XVIII вв. занимали огородные культуры. В исследуемый период еще не был известен картофель, главными овощами, судя по лексике, были капуста и репа. В документах обычно отмечаются огороды (чаще огородцы ) капустники и конопляники : Два огорода один огород конопленик а другой капусник [ КМ : 1]; У того двора с подгорья огородец капусник [ КМ : 15]; Подписал яз Прокопей ему Григорью на Цыдве погосте огородец конопляник [ Уд : 244].
Конопля была важна в хозяйстве, так как давала волокна для грубого холста ( Два конца холсту конопляного мерою 28 аршин [ КЗСИ : 786]), а также конопляное семя и конопляное масло, используемые в пище: Ку-пити масла коровьяго и конопляного [ Ш 2: 285].
Большие площади – репища – были засеяны репой : Да мне ж Семену досталось репище под двором в межах с сиверу и з западу круг того репища гсдрвы улицы [ ЧМ 2561: 37]. Репы выращивали много: Искал судом я сирота ваш на нем Сеньке за потравленной свой хлеб и за репу пяти рублев 28 алтын [ КА : 65].
Апеллятивы капуста и репа становились прозвищами, давшими фамилии Капустин, Капустников, Репин, Репнин, Репнинов, Репняков [СПФ: 156, 320, 321]. Словом капустник называли не только огород под капустой, но и пирог с капустой (см. выше). Отмечаются в документах Прикамья слово редька (И в том огородце сеяна общая ретка [ПКМ: 127]) и фамилии Редькин, Редькиных [СПФ: 321], а также фамилия Кушманов из коми-пермяцкого названия редьки кушман [КПРС: 207]. Видимо, выращивали в Прикамье и брюкву, которая, судя по фамилиям Калюшев, Колегин, Ланкин [СПФ: 155, 173], могла иметь несколько названий: калюша, ланка и колега (или калега, как в настоящее время). Ср.: в пермских говорах XIX-XX вв. колега [СРНГ 14: 122 ], в других русских диалектах: калюшка [СРНГ 13:10], ланка [СРНГ 16: 255]. Пермские фамилии Печени-цын и Печенкин [СПФ: 292, 293] образованы от прозвищ из слов печеница и печенка, которыми называли печеные репу и брюкву [СРНГ 26: 347, 349]. До настоящего времени сохранилось в говорах Прикамья название паренки ‘пареные в печи репа, брюква, морковь’ (ср. фамилию XVII в. Паренкин [СПФ: 282]): Парёнки есть всякие. Репу на парёнки сушили: соломы в печку настелют, на солому репы накладут, вместе с корой, и печку замажут, с утра до утра. [СПГ 2: 75].
В прошлом широко употреблялся в пищу горох: Будучи де на Мяхком поле созвал де он Савка ево Сидорку горох молотить [ КЗСИ : 121].
В пермских документах зафиксированы прозвища Огурец и Чеснок, свидетельствующие о выращивании соответствующих растений: Житель Усолья Камского Фед(ь)ка Огурец [ КС : 156 об.], Крестьянин починка На Горе на реке Чусовой Федька Андронов сын Чеснок [ Е : 134].
Однако не все названия огородных растений попали в исследованные пермские памятники или в прозвища и фамилии. Так, не упоминаются морковь и лук, хотя сопоставление пермских материалов с другими источниками свидетельствует об их употреблении в прошлом.
В Пермском крае всегда подспорьем в питании были грибы и ягоды, названия которых, к сожалению, не представлены в пермских памятниках как апеллятивы, но отмечаются как основа прозвищ и фамилий. Так, об использовании грибов могут свидетельствовать пермские фамилии XVI-XVIII вв. Грибов, Боровиков, Быков, Вогненкин, Еловиков, Кульбиков, Масленников, Матрехин, Пыжев, Синевин, Синягин [СПФ]. Приведем результаты сопоставления их с данными диалектных словарей, позволяющих установить, от названий каких грибов образованы антропонимы. Часть названий грибов существует в современных пермских говорах и приводится в словарях.
Бык ‘гриб валуй’: Быки, оне всех первее растут из соленых-то грибов; оне горькие, их мочить надо; мало скрасна, кругленькие, низенькие [СПГ 1: 71].
Еловик – в одних местах (Чердынский район) так называют белый гриб: У нас белые-то грибы еловиками зовут [СПГ 1: 247]. В других (Соликамский район) – гриб рыжик: Еловик есть, рыжик, токо жарим его; он растет около ёлочек, около маленьких. Одне рыжики боровые, а другие рыжики – еловики : еловики не мочат, токо заваривают [там же].
Кульбик ‘гриб валуй’: У нас боле быками зовут эти грибы, а которы опять говорят кульбики … В прошло лето совсем ни одного гриба не принесла, только кульбиков насолила. [СПГ 1: 450].
Масленник ‘гриб масленок’: Идти по-за полю, немного в стороне масленники и растут… Масленник – тожё сухопутной гриб, его сушат; он жёлтенькой ли чё ли, оболочка у его верхняя снимается, она слизкая [СПГ 1: 507].
Другие слова, хотя и не попали в пермские источники XVI-XVIII вв., также могли называть виды грибов в Прикамье, так как отмечаются в севернорусских говорах.
Боровик ‘гриб подосиновик’ или ‘гриб рыжик’: У боровика головушка красная, растёт под осиной ; Рыжики, которы на борах растут, боровики [СГРС 1: 154].
Пыж ‘гриб дождевик’ [СРНГ 33: 187].
Матрехи ‘вид грибов’; матрешка ‘гриб свинушка тонкая’: А матрешки , они широки и они черны. Я новеньку матрешку сорвала, белу, ядрену [СРНГ 18: 36].
Иногда диалектные названия грибов близки основам пермских фамилий (Вогненкин, Синевин [СПФ: 82, 347]).
Вогненец ‘гриб волнушка’: Раньше во-гненцы белые были, щас ничего не стало [СГРС 2: 135].
Синявка ‘гриб сыроежка’: Из синявок губницу варят. Синявки и солить можно [СРНГ 37: 341].
Однако можно лишь предполагать, что фамилии Пыжев, Матрехин, Вогненкин, Си-невин образованы от прозвищ из названий грибов. Слова, давшие фамилии, могли иметь в пермских говорах и другие значения.
Названия ягод тоже не попадали в тексты деловых памятников как слова нарицательные, но отмечаются в Прикамье XVI-XVIII вв. как основы прозвищ (Берсень, Малина) и фамилий (Жаравихин, Морошкин, Смороди-нин, Черницын). Ср.: берсень ‘крыжовник’: Крестьянин погоста Пянтег на реке Каме Иванко Берсень [Я: 34 об.]; малина: Крестьянин дервни Советная Петр прозванием Малина [КЗСИ: 1031]; жаравиха ‘клюква’: Крестьянин деревни Усть-Уролка Иван Пантелеев сын Жаравихин [Ч: 65]; морошка: Чердынец Ивашко Морошкин [РСЧ 4: 89]; смородина: На мельнице на речке Пыс-корке помольщик Сенька Смородинин [Е 1: 12 об.]; черница ‘черника’: Беспашенный крестьянин погоста Вильгорт на реке Колве Анисимко Черницын [Я: 22.].
Использовались также плоды черемухи и шиповника, ср.: Черемхин от черемха ‘черемуха’ – Чердынец Тереха Черемхин [ Я : 13 об.]; Шипицин от шипица ‘шиповник’ – Крестьянин погоста Пянтег на реке Каме Петрушка Петров сын Шипицын [ КЧ : 104].
Ягоды употребляли в свежем виде, в виде наченки ‘начинки’ или налевки ‘заливки’ в печеных изделиях и заготовляли впрок, о чем может свидетельствовать слово леваш (ср. фамилию Левашов [ К : 193]. В севернорусских говорах леваш – ‘род смоквы или сухого варенья, приготовляемого из протертых ягод (редко с добавлением сахара или меда), высушенных на специальных досках (на солнце или в печи) в виде тонкого листа’ [СРНГ 16: 306].
Использовали и орехи, ср. прозвище Орех: Игнашко Семенов сын Орех с сыном Савкою [ К : 141]. Это могли быть кедровые орехи, кедры росли в Верхнем Прикамье: Веретея от Сергиева камени и от кедра вниз по Каме [ Ш 2: 304].
В пермских памятниках нет специальных текстов, посвященных описанию питания в крае. Однако изучение многочисленных фрагментов деловых текстов разных жанров способствовало выявлению названий употреблявшихся в Прикамье продуктов питания и видов приготовленной из них пищи. Рассмотрение лексики в контекстах памятников и в сопоставлении с материалами историколингвистических и диалектных словарей позволило установить семантику выявленных слов и представить тематическую группу лексики «Питание: пища из продуктов растительного происхождения», а также харак- теризуемую ею область быта русских жителей Пермского края. Анализ языкового материала показывает, что питание в XVI – начале XVIII в. было основано на продуктах, полученных из растений, выращенных в Прикамье.
Сопоставление полученных материалов XVI – начала XVIII вв. с описанием этнографами данных второй половины XVIII-XX вв. свидетельствует о последовательном развитии быта русских в Прикамье, о сохранении многих навыков, традиций в питании на протяжении ряда столетий, о связях Прикамья и Русского Севера в этой области быта. Это актуально как для этнографии, так и для истории языка, т.е. для описания отражения культуры и истории в лексике и ономастике Пермского края.
Вместе с тем исследование языка памятников письменности в этнографическом аспекте дает возможность охарактеризовать некоторые особенности лексики тематической группы «Питание» и связанной с нею ономастики. Так, названия злаковых культур представлены общерусскими словами; в то же время среди названий приготовленной пищи достаточно много диалектизмов ( аля-быш , мякиш , рипник и др.), реконструированных по данным ономастики. Диалектная лексика Прикамья XVI-XVIII вв. совпадает с данными других севернорусских говоров, кроме того содержит заимствования из коми-пермяцкого языка ( кушман , пельмень , чел-пан ), что свидетельствует о тесных бытовых связях народов Пермского края.
В следующей статье будут рассмотрены лексика и ономастика пермских памятников, отражающие мясной, молочный и рыбный стол жителей Пермского края, и представлены общие выводы о культуре питания в Прикамье XVI-XVIII вв. ————
-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» № 2.1.3/2175 «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья», № 2.1.3/483 «Русская речь Пермского края: история и современность» и грантов РГНФ № 08-04-82404 а/У, № 08-04-82408, № 08-04-82410 а/У, № 09-04-82402 а/У, № 09-0482403 а/У.
-
2 Аббревиатуры названий источников даны курсивом в отличие от аббревиатур в списке литературы. Цитаты из текстов памятников и из записей говоров
также даются курсивом, исследуемое слово в них выделяется полужирным шрифтом.
-
3 Шутем – оставленное поле, заросшее травой и кустарником.
-
4 Пожня – место покоса, заготовки сена.
-
5 В цитатах буква «ять», употреблявшаяся в памятниках непоследовательно, передается как «е» (ср.: лес ). Знаки препинания в пермских и других русских деловых текстах XVI – начала XVIII в. не употреблялись, в цитаты они не вводятся.
-
6 Прицыщать – очищать от пней.
-
7 Перелог – участок ранее возделываемой земли, оставленный без вспашки, залежь.
-
8 Место украйное Подкаменное – расположенное на окраине России XVI-XVII вв. около Камня, т.е. около Уральских гор.
-
9 Испольщик – работающий на кого-либо за половину урожая.
-
10 Шором – скирда, кладь хлеба.
-
11 Паворозы – ленты.
Список литературы Культура питания в Прикамье XVI-XVIII веков (по данным лексики и ономастики пермских памятников письменности). Статья первая
- АПМ -Акты Пыскорского монастыря. Рукопись. Архив СПб. ИРИ РАН. Кол. 115. № 388. Л. №.
- Ар. к. -Пермские документы XVII -начала XVIII в. Рукопись. Архив СПб. ИРИ РАН. Ф. 122. Короб. №.
- ГКЭ -Грамоты Коллегии экономии. Рукопись. РГАДА. Ф. 281. Оп. №.
- Е -Переписная книга воеводы Прокопья Козмича Елизарова 7155 (1647) г. по вотчинам Строгановых//Труды Пермской ученой архивной комиссии. Пермь, 1893. Вып. 2. С. 87-146.
- Е 1 -Список с переписных книг Соли Камской переписи воеводы Прокофья Кузмича Елизарова 7155 (1647) году марта в 27 день. Рукопись. ГАПК. Ф. 597. Оп. 1. № 18.
- К -Писцовая книга Михаила Кайсарова Перми Великой 1623 года. Рукопись. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 256. Д. 308. Л. №
- КА -Кунгурские акты XVII века (1668-1699 гг.). СПб., 1888.
- КЗСИ -Кунгурская земская судная изба. Рукопись. РГАДА. Ф. 687. Оп. 1. Ед. хр. №.
- КМ -Соликамские столбцы XVII в. Рукопись. Кунгурский краеведческий музей. Док. №.
- КС -Писцовая книга Михаила Кайсарова Соли Камской 1623 г. Рукопись. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 256. Д. 208. Л. №.
- КСАУ -Кунгурские судебно-административные учреждения XVII-XVIII вв. Рукопись. РГАДА. Ф. 1015. Оп. 1. Ед. хр. №.
- КСГ -Копии соликамских грамот XVI-XVIII вв. Рукопись. Пермская краевая библиотека им. А.М.Горького. Ф. редкой книги. № 61593. Л. №.
- КЧ -Писцовая книга Михаила Кайсарова Перми Великой 1623 г. Рукопись. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 256. Д. 308. Л. №.
- ПКМ -Свитки XVII в. Рукопись. Пермский краевой музей. Фонд 11101. Ед. хр. №.
- РГАДА -Кунгурская таможня. Рукопись. РГАДА. Ф. 829. Оп. 1. Ед. хр. №.
- РСЧ -Расписные списки. Рукопись. РГАДА. Ф. 137. Оп. г. Чердынь. Л. №.
- Уд -Удинцев В. История займа/В.Удинцев. Киев, 1908.
- Ч -Ревизская сказка Чердынского уезда 1711 г. Рукопись. ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. № 2357. Л. №.
- ЧА -Спасский Г. Чердынские юридические памятники с 1606 по 1718 г.//Временник Московского общества истории и древностей российских. М., 1857. Кн. 25.
- ЧМ -Чердынские свитки XVII-XVIII вв. Рукопись. Чердынский краеведческий музей. Ф. № 2558, 2561. Л. №.
- Ш -Шишонко В. Пермская летопись. Периоды 1-5. Пермь, 1880-1889.
- Я -Писцовая книга Ивана Яхонтова Перми Великой 1579 г. Рукопись. РГБ. Отдел рукописей. Ф. 256. Д. 308. Л. №
- Акчим. сл. -Словарь говора деревни Акчим Красновишерского района Пермской области/Под ред Ф.Л.Скитовой. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1984-2003. Вып. 1-5.
- АОС -Архангельский областной словарь/Под ред. О.Г.Гецовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. Вып. 2. Архипенкова И.С. Группа слов с корнем бус 'мучная пыль' в русских диалектах XIX-XX вв.//Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии: Материалы и исследования/Перм. ун-т. Пермь, 2007. Ч. 1. С. 71-74.
- Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми. XIX -начало XX в. М.: Изд-во АН СССР, 1958.
- Гайдамашко Р.В. Финно-угро-самодийские заимствования в системе охотничей терминологии Северного Прикамья//Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии: Материалы и исследования/Перм. ун-т. Пермь, 2007. Ч. 2. С. 216-223.
- Даль -Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1955.
- Кирьянов И.К., Коренюк С.Н., Чагин Г.Н. Рыболовство в Пермском крае в стародавние времена. Пермь: «Книжный мир», 2007.
- КПРС -Коми-пермяцко-русский словарь/Сост. Р.М.Баталова, А.С.Кривощекова-Гантман. М.: «Русский язык», 1985.
- Кривощеков И.Я. Географический и статистический словарь Чердынского уезда Пермской губернии. Пермь, 1914.
- КЭСКЯ -Краткий этимологический словарь коми языка/Сост. В.И.Лыткин, Е.С.Гуляев. М.: Наука, 1970.
- На путях из земли Пермской в Сибирь: Очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII-XX вв./Отв. ред. В.А.Александров. М.: Наука, 1989.
- Пермская область: Административно-территориальное деление. Пермь: Перм. книж. изд-во, 1963.
- Полякова Е.Н. Лексика местных деловых памятников XVII -начала XVIII века и принципы ее изучения: Учебное пособие по спецкурсу/Перм. ун-т. Пермь, 1979.
- Полякова Е. Н. Коми-пермяцкие материалы в рукописных пермских памятниках XVI-XVIII вв.//Рукописные памятники как предпосылки создания национальной письменности: Материалы межрегиональной научной конференции/Перм. пед. ун-т. Пермь, 2008 а. С. 27-37.
- Полякова Е. Н. Коми наследие в лексике русских говоров Пермского края//Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии (Материалы и исследования). Вып. 2. Пермь, 2008 б. В печати.
- СГТ -Полякова Е.Н. Словарь географических терминов в русской речи Пермского края/Перм. ун-т. Пермь, 2007.
- СОРЯМР -Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков/Под ред. О.С.Мжельской. СПб.: Наука, 2004. Вып. 1.
- СПГ -Словарь пермских говоров/Ред. А.Н.Борисова, К.Н.Прокошева: В 2 вып. Пермь: «Книжный мир», 2000-2002.
- СПП -Словарь пермских памятников XVI -начала XVIII века: В 6 вып./Сост. Е.Н.Полякова. Пермь: Изд-во Перм. ун-та: 1993-2001.
- СПФ -Полякова Е.Н. Словарь пермских фамилий. Пермь: «Книжный мир», 2005.
- СРГКПО -Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа/Ред. И.А.Подюков. Пермь: Изд-во ПОНИЦАА, 2006.
- СРГСУ -Словарь русских говоров Среднего Урала: В 7 вып./Под ред. А.К.Матвеева. Свердловск. изд-во Урал. ун-та. 1964-1988.
- СРГСУ-Д -Словарь русских говоров Среднего Урала: Дополнение/Под ред. А.К.Матвеева. Екатеринбург. Изд-во Урал. ун-та, 1966.
- СРНГ -Словарь русских народных говоров/Под ред. Ф.П.Филина, Ф.П.Сороко-летова. СПб., 1966-2008. Вып. 1-41.
- ССКЗД -Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов/Под ред. В.А.Сорвачевой. Сыктывкар: Коми книж. изд-во, 1961.
- Чагин Г.Н. Культура и быт русских крестьян Среднего Урала в середине XIX -начале XX века: Учебное пособие по спецкурсу. Пермь: Изд-во Томского ун-та. Перм. отд., 1991.
- Чагин Г.Н. Мировоззрение и традиционная обрядность русских крестьян Среднего Урала в середине XIX -начале XX века: Учебное пособие по спецкурсу. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1993.
- Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв.: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Екатеринбург: «Сократ», 2002 а.
- Чагин Г.Н., Черных Г.Н. Народы Прикамья: Очерки этнокультурного развития в XIX-XX вв. Пермь, 2002 б.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 1, М.: Наука, 1975, 372 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 2, М.: Наука, 1975, 320 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 3, М.: Наука, 1976, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 4, М.: Наука, 1977, 404 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 5, М.: Наука, 1978, 392 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 6, М.: Наука, 1979, 360 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 7, М.: Наука, 1980, 404 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 8, М.: Наука, 1981, 352 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 9, М.: Наука, 1982, 360 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 10, М.: Наука, 1983, 327 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 11, М.: Наука, 1986, 455 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 12, М.: Наука, 1987, 383 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 13, М.: Наука, 1987, 319 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 14, М.: Наука, 1988, 311 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 15, М.: Наука, 1989, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 16, М.: Наука, 1990, 295 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 17, М.: Наука, 1991, 296 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 18, М.: Наука, 1992, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 19, М.: Наука, 1994, 272 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 20, М.: Наука, 1995, 288 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 21, М.: Наука, 1995, 280 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 22, М.: Наука, 1997, 298 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 23, М.: Наука, 1996, 253 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 24, М.: Наука, 2000, 254 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 25, М.: Наука, 2000, 278 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 26, М.: Наука, 2002, 278 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 27, М.: Наука, 2006, 276 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. Выпуск 28, М.: Наука, 2008, 303 с.