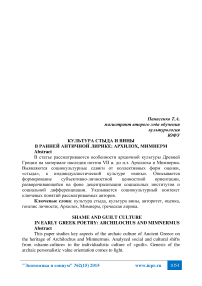Культура стыда и вины в ранней античной лирике: Архилох, Мимнерм
Автор: Панасенко Т.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-3 (15), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности архаичной культуры Древней Греции на материале наследия поэтов VII в. до н.э. Архилоха и Мимнерма. Выявляются социокультурные сдвиги от коллективных форм оценки, «стыда», к индивидуалистической культуре «вины». Описывается формирование субъективно-личностной ценностной ориентации, разворачивающейся на фоне децентрализации социальных институтов и социальной дифференциации. Указывается социокультурный контекст ключевых понятий рассматриваемых авторов.
Культура стыда, культура вины, авторитет, оценка, генезис личности, архилох, мимнерм, греческая лирика
Короткий адрес: https://sciup.org/140112434
IDR: 140112434
Текст научной статьи Культура стыда и вины в ранней античной лирике: Архилох, Мимнерм
В своей книге « The Greeks and the Irrational » Эрик Доддс, в главе, посвящённой гомеровской архаике, вводит понятия «культура стыда» и «культура вины» («shame-culture" and "guilt-culture"). Автор, однако, замечает, что указанную схему нужно понимать относительно, не претендуя на универсальность и абсолютность. «Культура стыда», во многом, не исключает «вины», хотя и выражает, в известной степени, альтернативный тип социокультурной, личностной, морально-нравственной идентификации индивидов в окружающем пространстве. Со времен греческой архаики есть смысл говорить не о резкой трансформации культурного паттерна от «стыда» к «вине», а, скорее, о постепенной трансформации важнейших культурообразующих сегментов.
Как известно, Доддс предложил собственную трактовку генезиса классической античной культуры, включив ее в различные компоненты иррационального . Так, Доддс описывает понятия фтоноса , т.е. зависти богов смертным, порождающее неустойчивость и неопределенность социума, или ате , феномен непосредственного вторжения в психику человека сверхъестественных сил, столь часто появляющийся у гомеровских героев, действующих под «божественным» опьянением…
Под «культурой стыда», со времен Р. Бенедикт, традиционно понимается особая система внешней, социальной оценки действий индивида, система, при которой индивид соотносит свои поступки с несомненным внешним социальным авторитетом, выступающим ценностным фоном, непререкаемой инстанцией.
Так, применяя указанную схему к античной архаике, можно сказать, что ценностный мир гомеровских героев содержит в себе мощнейшую архитектонику «культуры стыда», апеллирующей к родовой «чести», славе, ратным подвигам, героизму, внешне наблюдаемой и фиксируемой соотечественниками «добропорядочности», «набожности» и т.д. Примечательно, что само явление религии Доддс не связывает с моралью как социальным явлением: «религия на ранних этапах своего развития не соотносилась с моралью – у них разные источники. Религия происходит из связи с природным окружением, мораль – из отношения к соотечественникам [6]» .
С Архилоха, «первого поэта после Гомера», на наш взгляд, начинается переход от стыда к вине, к особым образом понятому индивидуальному. Хотя Архилох еще традиционалист, близкий к гомеровским ценностям стыда, коллектива и внешнего локуса контроля, но у паросского поэта уже появляется новое личностно-психологическое измерение. Прежде всего, социальное положение Архилоха, - незаконнорожденного сына Телесикла, гражданина о. Парос и рабыни, не дало поэту возможности для интеграции в уважаемые слои общества на родном острове. Архилох ощущает себя социальным изгоем и маргиналом, отсюда, вероятно, депоэтизация и десакрализация общества, столь сильно выраженные в творчестве античного автора. Например, Αἰσιμίδη, δήμου μὲν ἐπίρρησιν μελεδαίνων οὐδεὶς ἂν μάλα πόλλ' ἱμερόεντα πάθοι [8, фр. 14]. «Если, Эсмид, мой дружище, упреки народа бояться, радости в жизни едва ли испробуешь ты».
Как известно, Архилох, не имея возможности получить права гражданина у себя на родине, стал наемным солдатом, участвуя в различных кампаниях. Например, известно участие Архилоха в столкновениях на острове Фасос за право владения фракийскими приисками. Как отмечают биографы, так и провел Архилох всю свою жизнь наемником, погибнув в очередной схватке [2, c. 3]. Вероятнее всего, именно изгнанничество, маргинальность и постоянные перипетии военной службы наемника послужили тем социокультурным фоном, повлиявшем на внутренний мир паросского поэта.
Вместо типичной гомеровской героики Архилох воспевает будничные, в каком-то смысле, даже «позорные», или низменные обстоятельства жизни наемника, участвующего в сражениях, смысла которых он не видит. Например, игнорируя описание ратных подвигов, столь сильно формирующих социальное понятие чести для солдата, Архилох описывает прозаическую обыденность службы: ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ' οἶνος Ἰσμαρικός· πίνω δ' ἐν δορὶ κεκλιμένος [8, фр. 2.1.2]. «В копье моем замешан хлеб. И в копье же – вино измарское. Пью вино, опираясь на копье».
Если для гомеровского грека, воспитанного в «культуре стыда», вопросы дисциплины и порядка, особенно в военных действиях, это сакральные императивы, то для Архилоха, с его ощущением «незначительности» жизни наемника, воюющего в чужих далеких землях, самым ценным становятся личные, индивидуальные переживания, скрашивающие утомительную службу. Например, находясь в дозоре, т.е. очень ответственном военном задании, от которого может зависеть весь исход битвы, Архилох, игнорируя дисциплину и кодекс солдата, описывает винопитие на посту: ἀλλ' ἄγε σὺν κώθωνι θοῆς διὰ σέλματα νηὸς φοίτα καὶ κοίλων πώματ' ἄφελκε κάδων, ἄγρει δ' οἶνον ἐρυθρὸν ἀπὸ τρυγός· οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς νηφέμεν ἐν φυλακῆι τῆιδε δυνησόμεθα [8, фр. 5]. «С кубком лаконским в руках ты иди по полам ладьи быстроходной, крышку рукой с бочки старой снимай. Вино набирай до густого осадка! Быть на посту трезвым всю ночь силы не хватит нам».
Однако, пожалуй, самым разительным и контрастным фрагментом Архилоха, в свете интересующей нас темы «стыда и вины», является пассаж, приводящийся Плутархом, в "Laconian Institutions": ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι, ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων· αὐτὸν δ' ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω [8, фр.
6]. «Некий саиец радостно носит теперь мой щит превосходный, так иль иначе, бросил его я в кустах. Но я спас, ведь, себя! Чем же сей щит может быть мне жизни важнее? Пусть пропадает, другой я не хуже смогу раздобыть». Этот фрагмент, как известно, вызвал невероятные дискуссии еще со времен античности. Архилоха упрекали и в трусости, и в глумлении над «гомеровской стариной», поскольку паросский поэт использовал для своей циничной инвективы эпические гекзаметры. С другой стороны, Архилоха не признали бы «божественным» и не поставили на его родном острове Паросе святилища в его честь, если бы пойэзис Архилоха не был бы созвучным нарождающемуся мироощущению его современников.
Социокультурные выводы из этого фрагмента таковы, что для Архилоха, т.е. к VII в. до н.э., уже утратили силу традиционные регулятивы «чести», героики и воинской доблести. Архилоху «не стыдно» бросить щит врагу, сохранив собственную жизнь. Например, в Спарте за такой поступок гоплит неминуемо был бы приговорен к смерти. Однако, проблема в том, что для Архилоха в подобном деянии нет никакого позора (ὄνειδος), поскольку «жизнь дороже чести».
С Архилохом, безусловно, начинает становление внутреннее содержание личности, индивида, со всеми его психологическими и моральными атрибутами. В этой связи примечателен полнейший агероизм , своеобразная социальная апатия Архилоха. Не интересует античного автора и патриотизм . Как мы говорили выше, родина для Архилоха – это место, где он не может стать гражданином, т.е в правовом , гражданском смысле он индивид неполноценный, изгой. Социальная апатия, накладываясь на ежедневные военные будни, порождала сознание никчемности, осознание «отсутствия будущего», жажду сиюминутного счастья и успокоения: «Никакой посмертной славы – наемник ценен лишь пока он жив», а, в обращении Главку - «ценность наемника длится лишь до той поры, пока он может сражаться»: Γλαῦκ', ἐπίκουρος ἀνὴρ τόσσον φίλος ἔσκε μάχηται [8, фр. 8].
Не стремится к поэтической торжественности Архилох и в своих зарисовках природной жизни. Так, остров Фасос рисуется, отчасти, уничижительно, показывая «заросший лесом выпирающий ослиный хребет»: ἥδε δ' ὥστ' ὄνου ῥάχις ἕστηκεν ὕλης ἀγρίης ἐπιστεφής, οὐ γάρ τι καλὸς χῶρος οὐδ' ἐφίμερος οὐδ' ἐρατός, οἷος ἀμφὶ Σίριος ῥοάς [8, фр. 21]. Если первые две строки показывают природную эстетическую непривлекательность Фасоса (в переводе У. Харриса «but this (island) stands like the backbone of an ass crowned with savage woodland») [7, c. 57], то вторые две отражают оценочное, лично-архилоховское отношение к «местам боевой славы»: невзрачный край (οὐ γάρ τι καλὸς χῶρος), не милый (οὐδ' ἐφίμερος), не желанный (οὐδ' ἐρατός). Пожалуй, эти природные фрагменты показывают, насколько внешнее, в том числе и социальное, родовое, в известной степени, становится чуждым Архилоху. Из череды бессмысленных войн, в чужих местах, не радующих глаз, не имея возможности нормального человеческого пути гражданина у себя на родине, паросский поэт довольствуется только личным, внутренним, сокрытым. Этим, во многом, объясняется та трансформация ценностного гештальта в сторону внутреннего сознания, в сторону культуры вины.
На наш взгляд, ключевым фрагментом, открывающим растерянность Архилоха, да и многих других жителей архаичной Греции VII в до н.э. перед природными, социальными, религиозными и др. реалиями, служит повествование о неожиданном затмении, случившемся во время битвы: χρημάτων ἄελπτον οὐδέν ἐστιν οὐδ’ ἀπώμοτον οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Zεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων ἐκ μεσαμβρίης ἔθηκε νύκτ’, ἀποκρύψας φάος ἡλίου †λάμποντος, λυγρὸν† δ’ ἠ̓̑λθ’ ἐπ’ ἀνθρώπους δέος [8, фр. 122]: «Можно ждать любых событий, можно веровать во все, раз уж Зевс, богов отец, в полдень тьму послал на землю, преградивши свет лучей…». И, итогом этого пассажа выступает «все отныне должны люди вероятным признавать и возможным…» [9, с. 152].. Архилох уже не верит в незыблемость природных, социальных связей, в устойчивость «положения вещей». Эпизод с затмением и его поэтическое осмысление Архилохом свидетельствуют о разрыве связей того органического мироощущения, свойственного гомеровским героям. Затмение, говоря терминами Доддса, – это своеобразное « вторжение иррационального » в сознание архаичного грека, вторжение, разрушающее веру в «порядок вещей», «законы отцов» и т.д. Именно этот факт, в том числе, и обусловил трансформацию «культуры стыда», т.е. внешней социальной оценки действий индивида с позиции строго установленных норм, обычаев, «кодексов чести» и т.д., в сторону внутреннего-интроспективного, исповедально-личного, в сторону «вины».
К сказанному необходимо добавить еще одну деталь жанрового характера, поскольку она, на наш взгляд, проливает свет на истоки индивидуализма греческого поэта. Как известно, паросский автор был автором не только элегий, но и ямбической поэзии . Архаичная ямбика, безусловно, имеет свою долитературную историю, отражая древнейшие формы социальной критики. Ямбика, связанная с архаичным народным «скоморошеством», с культовыми празднествами, всегда основывалась на индивидуально-критической позиции авторов к тем или иным социальным явлениям. Безусловно, ямбы имеют много общего с тем литературным явлением, которое мы называем древней комедией [10, с. 37]. Не случайно, что именно Архилох, а затем и Аристофан, с его народным языком, используют грубые, обсценные выражения фольклорной жизни народной Греции. Именно ямбика с ее сексуальным гротеском и цинизмом, с неприятием любых авторитетов, становится критическим орудием в острой социальной борьбе Афин времен Клисфена. Ямбический нигилизм архаичной Греции свидетельствует о зарождении остро индивидуальной личностной культуры, которая противопоставляет себя родовым институтам, авторитетам.
В классические времена ямб стал трактоваться строго метрически, однако, мы встречаем весьма небезынтересное и, вероятно, не обладающее метрическим смыслом, понятие ямба у Архилоха: καί μ ̓ οὔτ ̓ ἰάμβων οὔτε τερπωλεων μελει. «Ни ямбы, ни утехи меня не занимают» [9, с. 149]. Как известно, Аристотель ( Pol.1448b ) полагал ямбику наследницей критически-обвинительной культуры, «разделяя поэзию на два вида – восхваляющую (epainoi) и осуждающую (psogoi), связывая глагол «ямбить» (iambizein) с последней» [9, с. 149]. Таким образом, как социокультурные, так и жанровые аспекты творчества Архилоха свидетельствуют о зарождении нового индивидуального вектора самосознания в контексте личностной ценностной ориентации, отчасти противопоставляющей себя традиционному социальному окружению.
В контексте темы данной работы есть смысл обратиться к поэтическому наследию выходца из ионийского Колофона – Мимнерма. Именно Мимнерм символизирует нарождающуюся индивидуальную культуру отдельной личности с ее самосознанием, противоречивыми эмоциями и интересами. Колофонский поэт, пожалуй, как никто другой, ощущал мимолетность уходящей молодости и предчувствовал тяготы надвигающейся «позорной старости». Как пишет В.Н. Ярхо, «сам Мимнерм мечтает прожить до шестидесяти лет без тягот и болезней…одно это желание характеризует утрату того гомеровского ощущения, для которого старость – предмет почета и уважения» [1, с. 123]. Безусловно, когда социальные связи теряют свою органичность, индивид «уходит в себя», теряясь в потоке увлечений, мимолетных наслаждений. И действительно, кто из членов агонизирующего традиционного общества может что-то возразить на это? Общество перестало быть авторитетом, «культура стыда» уходит в прошлое, так как десакрализированный социум уже не заставляет стыдиться молодых людей, чувствующих приближение новой индивидуалистической эпохи. Если гомеровское общество было весьма однородно, целостно, подчиняясь родовой морали, авторитету базилевса и геруссии, то уже к VII в. до н.э., как в материковой Греции, так и на малоазийском побережье, социальные противоречия сказывались все сильнее. Набирала обороты мощнейшая социальная дифференциация, приведшая к мозаичности социального уклада, дроблению социальных институтов, фрагментации исторических авторитетов (мораль, религия, право, власть и т.д.). Эту пеструю мозаичность, неоднородность общества, Мимнерм передает, описывая ценностный релятивизм его сограждан: σὴν αὐτοῦ φρένα τέρπε· δυσηλεγέων δὲ πολιτ<έω>ν ἄλλός τίς σε κακῶς, ἄλλος ἄμεινον ἐρεῖ [8, фр. 8], т.е. «услаждай свою душу (φρένα), одни из сограждан будут злословить, другие – похвалят». Этот пассаж Мимнерма примечателен, поскольку символизирует определенную «децентрализацию» социального авторитета в условиях дробления общества, смещение самооценки индивида со стороны социума внутрь, к личному «Я», к психологическому переживанию. Нет смысла взирать на социум, который дробится и раскалывается под влиянием социальных противоречий, нужно «быть собой», пока молод и полон сил, потому что в старости, как ощущает Мимнерм, ты «никому не нужен», вызывая «презрение у юношей и жен», страдая от бесконечных проблем. Этот «гимн» быстротечной молодости, тоски по уходящему цветению и юности, Мимнерм связывает с «дарами золотой Афродиты», с эротикой, флиртом, упоением тайным, запретным свиданием и любовным ложем: τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης; τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή, οἷ' ἥβης ἄνθ<εα> γίνεται ἁρπαλέα… [8, фр. 1]. «без Афродиты золотой какая радость? Уж лучше и не жить, если не манят тайные связи, объятия, да ложе страстное..».
Здесь καὶ εὐνή буквально «постель», или даже «брачная постель», в то время, как τερπνὸν от существительного ή τερπνός– это и есть предмет стремления Мимнерма – удовольствие, наслаждение, которые могут быть получены только молодым, полным сил. Старость же (τό γῆρας) в 6-й строке этого фрагмента характеризуется эпитетом αἰσχρός (ή) «позорный», «плохой», «уродливый» [3, c. 1].
Если для гомеровского героя, т.е., классического представителя «культуры стыда», лучшим благом жизни выступают слава и почет (пусть даже посмертные), то забвение – это худшая участь. Понятия славы, доблести и чести, безусловно, относятся к социальным формам оценки деятельности индивида родом, коллективном. Эти оценки отражаются в коллективной памяти в виде эпоса или элегии. Для Мимнерма же, в отличие от гомеровского Ахилла, социальное мнение (современников, потомков) не имеет принципиального значения. Мимнерм сосредоточен на индивидуально-личностном, непосредственном , внутреннем, в то время, как слава Ахилла – это чисто внешний социальный фантом. Если Ахилл жертвует жизнью ради социальной оценки, боясь безвестной кончины, то для Мимнерма худшая участь – это затяжная старость. Образ Тифона , которому было обещано бессмертие, но, по причине двусмысленности договора, он стал бессмертным стариком , «забыв спросить о вечной молодости», для Мимнерма – безусловно, страшный символ наихудшей доли. Не случайно, что колофонский автор «предпочитает смерть» вечной старости: Τιθωνῶι μὲν ἔδωκεν ἔχειν κακὸν ἄφθιτον … γῆρας, ὃ καὶ θανάτου ῥίγιον ἀργαλέου [8, фр. 4], т.е. «вечную, трудную старость даровали Тифону, этот удел еще хуже, чем смерть».
Однако, не стоит абсолютизировать индивидуализм и субъективизм Мимнерма. Как отмечалось в начале данной работы, «культура вины» лишь в определенной степени вызревала в личном и социальном сознании архаичного грека, соседствуя с традиционными паттернами «культуры стыда». Как известно, Мимнерм был не только свидетелем, но и, возможно, непосредственным участником военного противостояния греческих ионийских колонистов и древней Лидии. В поэме «Смирнеида», в тех незначительных фрагментах, дошедших до нас, рассказывается о героических столкновениях греков с лидийцами. В этом цикле стихов Мимнерм, безусловно, наследник гомеровского эпоса, отражая традиционную героику, категории чести, славы и подвига. Сказанное означает, что эпоха ранней греческой лирики – это переходный этап от коллективно-родового к индивидуальному сознанию.
Список литературы Культура стыда и вины в ранней античной лирике: Архилох, Мимнерм
- Ярхо, В. Н. Полонская К. П. Ранняя греческая лирика. М. 1967.
- Ancient Greek Lyrics. Translated & Annotated by Willis Barnstone. -Bloomington, 2010.
- Annis, William. Mimnermus. -Aoidoi, 2007.
- Benedict, Ruth. Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. -Boston: Houghton, 1946.
- Correa, Paula. Musical instruments and the paean in Archilochus//Synthesis. -2009. -Vol. 16, p. 99-112.
- Dodds, Eric. The Greeks and the Irrational. -Berkeley: University of California Press, 1973.
- Harris, William. Archilochus Fragments. First Poet after Homer. -Middlebury, 2009.
- Iambi Et Elegi Graeci, Ed. West, M.L. -Oxford: Clarendon Press, 1972.
- The Cambridge Companion to Greek Lyric. -Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- West, M.L. Studies in Greek Elegy and Iambus. -Berlin: Walter de Gruyter. 1974.