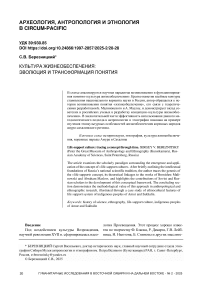Культура жизнеобеспечения: эволюция и трансформация понятия
Автор: Березницкий С.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется научная парадигма возникновения и функционирования понятия «культура жизнеобеспечения». Кратко наметив идейные контуры становления национального варианта науки в России, автор обращается к истории возникновения понятия «жизнеобеспечение», его связи с теоретическими разработками Б. Малиновского и А. Маслоу, и демонстрирует вклад советских и российских ученых в разработку концепции «культуры жизнеобеспечения». В заключительной части эффективность использования данного методологического подхода в антропологии и этнографии показана на примере изучения этнокультурных особенностей жизнеобеспечения коренных народов амуро-сахалинского региона.
История науки, этнография, культура жизнеобеспечения, коренные народы Амура и Сахалина
Короткий адрес: https://sciup.org/170209472
IDR: 170209472 | УДК: 39:930.85 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/20-28
Текст научной статьи Культура жизнеобеспечения: эволюция и трансформация понятия
Под воздействием культуры Возрождения, научной революции XVII в. сформировалась идео- логия Просвещения. Этот процесс хорошо известен по творчеству Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г.В. Лейбница, И. Ньютона, Б. Спинозы и других мыслите- лей. Эпоха Просвещения знаменовала собой важный этап в преодолении зависимости науки от религии, рост точных и естественных наук. Их развитие и воздействие на жизнь социума породило веру в безграничные способности разума. В 1846 г. Н.В. Гоголь в письме к В.А. Жуковскому высказал идею о том, что понятие «просвещение» является исконно русским: «Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить или образовать…, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести … его сквозь … очистительный огонь…» [5, с. 70–71].
Историкам науки хорошо известно, что европейская, западная наука отличается от восточной рационализмом, прагматизмом, обязательным наличием эксперимента. Научностью и логикой характеризуется западная философия, в сравнении с восточной, которая в индуизме, буддизме, конфуцианстве тесно взаимодействует с религией и мистикой. В 2024 г. Российской академии наук исполнилось 300 лет – в свете достижения этой вехи представляется особенно актуальным обращение к истории национальных научных идей и их систематизация, а также популяризация вклада отечественных ученых в разработку различных научных дисциплин, в особенности тех, чьим предметом изучения является общество и человек. Ведь сегодня все большему числу россиян становится понятно, что развитие отечественного гуманитарного знания должно покоится на исторических традициях именно российского общества, на его ценностях и мировоззренческих установках. В данной статье речь пойдет об этнографическом знании: кратко наметив идейные контуры становления национального варианта науки в России, мы обратимся к истории возникновения понятия «жизнеобеспечение», проследим его связь с теорией потребностей Б. Малиновского и иерархией мотиваций А. Маслоу, охарактеризуем, как советские и российские ученые расширили и обогатили это понятие за счет разработки концепции «культуры жизнеобеспечения». Эффективность использования данного методологического подхода в антропологии и этнографии будет показана на примере изучения этнокультурных особенностей жизнеобеспечения коренных народов амуро-сахалинского региона.
Русские мыслители о соотношении мировой и национальной науки
Выдающаяся роль в деле создания отечественного варианта науки европейского типа принадле- жит М.В. Ломоносову, несмотря на то, что в его трудах можно найти отсылки к религиозным догмам. Ученый признавал наличие всемогущего Бога как создателя Вселенной и всего сущего. В частности, в 1761 г. Ломоносов совершил научное открытие мирового уровня, когда обнаружил атмосферу на Венере. Размышляя о возможности жизни на этой планете, он пришел к выводу о том, что это может быть только в силу божественного промысла. По мнению Ломоносова, именно Бог дал человечеству науку и веру, которые есть «две сестры родные, и никогда не могут прийти в распрю между собою» [17, с. 373–375].
Большие усилия Ломоносов прилагал к тому, чтобы русский язык стал языком отечественной науки, а научные труды печатались не только на латыни, немецком и французском языках, но и на русском. Хотя первые учебники по грамматике русского языка, арифметике, астрономии были напечатаны по указанию Петра I на русском языке еще в конце XVII – начале XVIII в. [9, с. 140]. Ломоносов настаивал на переводе «чужестранных» научных терминов на русский язык, предлагая оставлять непереведенными лишь такие слова, которым невозможно подыскать равнозначные по смыслу русские понятия.
В XIX – начале XX в. над соотношением науки и национальной культуры размышляли такие выдающиеся отечественные ученые, как Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, каждый из которых в соответствующем порядке являлся учеником своего предшественника. Д.И. Менделеев был убежден, что человеческий прогресс состоит в развитии индивидуальных особенностей каждого народа, и поддерживал идею разумной самодостаточности государства как основы развития [22, с. 282]. Не возражая против подготовки российских профессоров за границей, их знакомства с научными зарубежными достижениями, Менделеев видел главный фактор развития науки в ее национальном, самостоятельном характере [22, с. 330, 345]. Высоко оценивая роль Петра Великого в процессе просвещения России, он, однако, отмечал, что европейские ученые принесли с собой на русскую почву собственные национальные парадигмы науки: немецкую, голландскую, французскую.
Новую науку – почвоведение, которое было введено в научный оборот именно как самобытное русское направление учения о земле, разработал В.В. Докучаев [8]. Он был послан Вольным экономическим обществом в районы Черноземья, чтобы исследовать причины упадка урожайности на этих почвах, и в результате выяснил, что почва является особым телом природы, орудием труда человека, поэтому ее следует изучать с использованием тех же методологических установок, что и любое живое существо, в т.ч. человека, социум. Урожайность зависит не только от химического состава почвы, водного и воздушного режимов, но и от условий возникновения и функционирования антропогенного ландшафта, от характера труда, затрачиваемого на земледелие, от системы жизнеобеспечения.
Эти идеи о взаимосвязи географического ландшафта, климата, животных и человека повлияли на развитие концепции В.И. Вернадского о взаимосвязи биосферы (комплекс всего живого вещества вместе со средой обитания), ноосферы (локация разума на планетарном уровне) и космизма (изначальное живое вещество в космосе). Вернадский утверждал, что теоретическое мышление не было дано человеку как биологическому виду, а долго вырабатывалось в процессе эволюции общества. Структура мировой науки, по Вернадскому, представлена независимыми типами: европейским, индийским, китайским, американским, африканским [23, с. 29–32]. Рассматривая историю российской науки XVIII–XX вв., Вернадский делал акцент на проблеме соотношения науки и национальной культуры [4, с. 74–76]. Хотя нередко он высказывал мысли о том, что русская наука не существует, ибо наука едина для всего человечества [4, с. 74], однако здесь же писал о том, что процесс развития научного мировоззрения прочно связан с бытом народа, с социальными законами и исторической жизнью. Именно так и проявляется в истории науки конкретная национальность [4, с. 63, 74]. Важнейшей задачей Вернадский считал исследование истории науки отдельных стран, часто употребляя термин «русская наука» [4, с. 374] и сожалея о том, что до сих пор не получила развития инициатива индолога С.Ф. Ольденбурга и историка А.С. Лаппо-Да-нилевского по изданию полной истории русской науки [4, с. 257–259]. В целом творческое наследие Вернадского переполнено мыслями об универсальном характере мировой науки, о национальных отличиях русской науки, об отличиях восточного и западного научного мировоззрения. Историю развития науки Вернадский видит в последовательном движении от народной (этнической) науки к национальной и затем общепланетарной.
Становление и развитиепонятия «культура жизнеобеспечения»
Ученым разных направлений хорошо известна теория потребностей английского антрополога Б.К. Малиновского [18]. В статье 1936 г. «Культура как определяющий фактор поведения» [30] Малиновский частично рассмотрел это положение, которое окончательно сформулировал позже. Материалы были опубликованы в 1944 г., уже после его смерти. По Малиновскому, в основе человеческой культуры лежит комплекс первичных потребностей, связанных с питанием, выживанием, воспроизводством и т.п. Кроме них культурная среда обусловливает появление вторичных потребностей. И те, и другие выполняют функции, направленные на обеспечение выживания сообщества, адаптации к природной среде и т.д. Считается, что именно эти теоретические разработки Малиновского натолкнули американского психолога А. Маслоу на создание концепции иерархии человеческих потребностей, т.н. «пирамиды Маслоу» [14, с. 35–45]. Маслоу выстроил схему мотиваций в виде блоков, каждый из которых соответствовал человеческим потребностям в эволюционном смысле: от простых, базовых (пища, секс, безопасность, стабильность, комфорт) – к более сложным (семья, принадлежность к социальной группе, самоактуализация). Вершину пирамиды заняла доработанная Маслоу позже категория трансцендентности или процесс выхода человека за пределы реального опыта, к истине. Переход от одной стадии к другой происходил на основе возникновения четкой мотивации. Статья «Теория человеческой мотивации» была опубликована Маслоу в 1943 г., впоследствии несколько раз переиздавались монографии на эту тему [20], однако в виде пирамиды иерархию потребностей изобразили уже другие психологи, исследующие эту проблему. Маслоу же не только не визуализировал свою концепцию таким образом, но и отказался в 1968 г. от схемы с несколькими уровнями, оставив лишь два: базовые желания и потребности самоактуализации [21, с. 23–24].
Таким образом, Малиновский фокусировался на взаимосвязи потребностей и культуры, в то время как Маслоу изучал последовательность удовлетворения потребностей и их иерархию. Концепции человеческих потребностей Малиновского и Маслоу имеют в своей основе разные методологические подходы. Малиновский делил потребности на первичные (биологические) и вторичные (культурные), Маслоу создал иерархичес- кую модель потребностей и мотиваций. Переход к следующей стадии был возможен, по мнению Маслоу, только при условии удовлетворения предыдущих потребностей. Впоследствии этот механизм подвергся критике исследователей.
С теорией потребностей и иерархией мотиваций связано понятие «культура жизнеобеспечения», которое окончательно утвердилось в научном обороте как российское, пройдя определенные этапы развития и трансформаций. Под «культурой жизнеобеспечения» подразумевается сложная система, необходимая для поддержания и возрождения традиций этноса, процессов этнической идентификации и интеграции. Культура жизнеобеспечения важна для сохранения самобытности этноса и его этнокультурного пространства, промыслов, быта, искусства, языка, межпоколенного механизма трансляции культурных ценностей.
К наиболее важным компонентам жизнеобеспечения относятся технологии развития человека и человеческого общества, для чего необходимо сохранение природной среды обитания, институтов воспроизводства, материальных и духовных ценностей. Система жизнеобеспечения предназначена для поддержания и развития природных и антропологических основ социокультурной деятельности человека. Однако столь емким понимание сущности и функций жизнеобеспечения было не всегда. Долгое время с культурой жизнеобеспечения связывали лишь производство предметов, необходимых для удовлетворение физиологических, материальных потребностей человека, относя сюда прежде всего культуру питания, комплексы одежды, жилища, предметов быта.
Термин «жизнеобеспечение» был введен в научный оборот в 1930-х гг. американским антропологом Р. Лоуи, для которого он обозначал лишь технологию производства и распределения пищи [29]. Впоследствии отечественные этнографы С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян, Э.Л. Мелконян, И.И. Крупник, А.Н. Ямсков, В.И. Козлов, Р.М. Сатаев, А.В. Головнев значительно расширили и обогатили этот термин, сфокусировав внимание на «культуре жизнеобеспечения». Понимаемый по-новому, институт жизнеобеспечения стал включать в себя не только пищу, но и комплексы поселений, жилищ, одежды, технологий их создания, социальные отношения, духовно-культовые воззрения и ритуалы [3, с. 55-56; 19, с. 35-37]. С.А. Арутюнов при разработке окончательного варианта формулировки понятия «культура жизнеобеспечения» показал важность престижных, эстетичес- ких, ритуально-культовых и других компонентов этого этнокультурного института, направленных на поддержание жизнедеятельности этноса [2, с. 200-205].
Подробно рассмотрел особенности системы природопользования, культуры жизнеобеспечения коренных народов Севера И.И. Крупник. Ученый подчеркнул, что их традиционные промыслы невозможно однозначно отнести к категории высокоэкологичной деятельности. Люди вынуждены убивать сухопутных и морских животных, чтобы оптимально обеспечить сохранение и воспроизводство этноса. Сложное соотношение понятий «жизнеобеспечение» и «природопользование» Крупник предложил решать посредством построения локальных моделей адаптации конкретных этносов к окружающей среде [16, с. 5-6, 14-16 и др.].
Свою концепцию культуры жизнеобеспечения коренных народов Севера разработал А.В. Головнев [6, с. 21–27, 296]. Для этого ученый предложил встроить материальную, духовную, соционорма-тивную и экологическую сферы культуры в комплекс человеческой деятельности, в систему жизнеобеспечения. Эти сферы прочно связаны, особенно в промысловой деятельности и в природопользовании. Адаптироваться к окружающей природе невозможно без этнической картины мира, календаря, комплекса мифов, верований, ритуалов и праздников.
Независимо друг от друга А.Н. Ямсков и Р.М. Сатаев провели анализ основных концепций жизнеобеспечения, выделив три главных варианта: «культура жизнеобеспечения», «система жизнеобеспечения» и «процесс жизнеобеспечения» социальных и биологических потребностей человека. При этом исследователи пришли к выводу, что все эти трактовки понятия «жизнеобеспечение» не являются универсальными [26; 28].
Культура жизнеобеспечения коренных народов амуро-сахалинского региона
На основе синтеза вышеназванных взглядов отечественных и зарубежных ученых можно сформировать понимание культуры культуры/си-стемы жизнеобеспечения как специфической области человеческой деятельности по адаптации к окружающему миру; технологии по производству, распределению материальных и духовных благ, ценностей; комплекс идей, ритуалов и практик, необходимых для сохранения и развития этнокультурных особенностей, для оптимального существования и гармоничного развития этноса.
Гармоничное развитие культуры жизнеобеспечения этноса невозможно без учета взаимосвязей общества и конкретной природной среды, материальной и духовной культуры, хозяйственной деятельности. Приоритетным в такого рода исследованиях является комплексный междисциплинарный подход, синтезирующий данные нескольких научных дисциплин: этнографии, истории, антропологии, этнической экологии, философии, фольклористики и др.
Следует учитывать локальные особенности культуры жизнеобеспечения. Так, наиболее важными компонентами жизнеобеспечения коренных народов Амура и Сахалина является рыболовный и охотничий промыслы, сбор пищевых, лекарственных, технических дикоросов и морепродуктов; адаптация этносов к окружающей среде, к природным ландшафтам, в зависимости от особенностей хозяйственно-культурного типа и этнической картины мира; технологии по производству продуктов питания, транспорта, одежды, промыслового оборудования, других вещей, использование которых направлено на достижение устойчивого развития этноса; мировоззренческие, мифологические, ментальные составляющие культуры жизнеобеспечения, показывающие этнокультурные особенности.
Эволюция культуры жизнедеятельности зависит от естественного хода развития этноса, от постепенных, внешне плохо заметных, но неизбежных изменений социокультурной сферы, от интенсивности межэтнических контактов и взаимодействий. С.А. Арутюнов обратил особое внимание на особенности межэтнических коммуникаций мощных цивилизаций и немногочисленных этносов, ведущих традиционный образ жизни охотников, рыболовов, морских зверобоев, оленеводов на основе первого хозяйственно-культурного типа [1]. В результате контакта коренные народы становятся реципиентами и воспринимают этнокультурные компоненты от своих более развитых в промышленном отношении соседей. Коренные народы амуро-сахалинского региона на протяжении своей этнической истории активно контактировали как между собой, так и с восточными и европейскими цивилизациями.
На основе системно-синергетического подхода, но с использованием концепций С.А. Арутюнова и Э.С. Маркаряна, этнокультуролог Я.С. Иващенко исследовала комплексы жизнеобеспечения коренных народов Севера Дальнего Востока России. В результате она сделала справедливый вы- вод о том, что эти механизмы жизнеобеспечения являются важной адаптивно-адаптирующей подсистемой традиционной культуры охотников, рыболовов и морских зверобоев. Анализ типологии хозяйства и материальной культуры этих этносов позволил ей выделить разные конфигурации моделей жизнеобеспечения. У охотников-оленеводов она представлена замкнутыми круговыми маршрутами, в соответствии с миграциями оленьего стада. «Линейная» модель жизнеобеспечения характерна для полуоседлых рыболовов бассейнов крупных рек и оседлых морских зверобоев. Рыболовы сезонно перемещаются от зимних поселений к летним и обратно для добычи и заготовки впрок лосося. Морские зверобои выработали собственную стратегию жизнеобеспечения, основанную на сезонной миграции китов, на добыче млекопитающих. Данная специфика жизнеобеспечения прочно связана с традиционной технологией устройства стойбищ, планировкой жилищ и хозяйственных построек, с комплексом верований, ритуалов и праздников [10; 11; 12; 13].
Результаты промысла зависят от объема рациональных знаний о животных, от качества промыслового оборудования и транспорта. В традиционных и современных промысловых технологиях используются иррациональные, сакральные, магические компоненты: транспортным средствам придаются свойства живых существ, с помощью амулетов, оберегов, табу люди стараются уменьшить степень зависимости от случайности и увеличить объем добычи. Верования и ритуалы выступают в качестве сакральных компонентов промысловых технологий.
Для исследования сущности механизма достижения лучших жизненных условий посредством сакральных компонентов промысловых технологий используется деятельностный подход, основанный на анализе причинно-следственного соотношения цели и средства [7, с. 120]. Технологии жизнеобеспечения преобразуют природу с целью удовлетворения потребностей человека, сокращения роли случая в процессе адаптации к окружающей природе, удовлетворения необходимых материальных и духовных потребностей [24, с. 169– 171, 175, 179, 180]. Перед производством орудия, транспорта, промысловой одежды и обуви, ловушек совершаются ритуалы для улучшения качества этих вещей, для получения наилучшего результата их использования в промысле. Традиционное общество амуро-сахалинских народов было заинтересовано в воспитании охотников, морских зверобоев, рыболовов, собирателей, которые смогут обеспечить продуктами промысла себя, свои семьи, больных и неимущих сородичей. Для этого необходимо владеть комплексом рациональных знаний о мире морских и таежных животных, технологиями изготовления и использования промыслового оборудования. Однако коренные жители старались гуманно относиться к окружающему миру и кормящему их ландшафту.
В результате длительной адаптации к природной среде они выработали специфическую модель питания, с блюдами, в состав которых входили термически не обработанные части тел домашних, диких, сухопутных и морских животных, рыб и птиц. Современные коренные народы Севера сохранили основанный на таежной охоте, морском зверобойном промысле, рыболовстве, собирательстве, оленеводстве особый тип ведения хозяйства, который обеспечивает их пищевыми ресурсами [15, с. 5]. Для нормального развития и обогащения организма биологически активными веществами, адаптации к окружающей среде, к северным ландшафтам, лишенным условий для культивирования растений, была выработана традиция сыроядения [25; 27, с. 20–21]. Этот уникальный механизм жизнеобеспечения был создан тысячелетия назад, но бытует и в настоящее время у тунгусо-маньчжу-ров и палеоазиатов амуро-сахалинского региона. После промысла охотники в сыром виде едят печень оленей, приготавливают ряд блюд из свежезамороженной рыбы. Более того, коренные народы вовлекли в процесс сыроядения довольно большой процент славянских переселенцев и представителей других этносов.
Культура жизнеобеспечения коренных народов амуро-сахалинского региона также имеет тесную связь с окружающими природными и антропогенными ландшафтами: петроглифами, священными природными и искусственными объектами. Все они играют важную роль в традиционной и современной культуре жизнеобеспечения. Важными остаются вопросы идентификации амуросахалинских этносов с реальными или воображаемыми создателями наскальных рисунков, родовой или этнической принадлежности священных ландшафтов. Населяющее конкретный ландшафт общество преобразует природное пространство в антропогенное, в котором воплощены материальные и духовные особенности этноса. На основе анализа информации коренных народов о сущности петроглифов Сикачи-Аляна, священных ландшафтов притоков р. Хор, бассейна р. Тумнин и других территорий можно выявить локальную модель соотношения исторического и мифологического восприятия сакральных объектов с феноменами идентичности коренных народов амуро-сахалинского региона, с этнокультурными особенностями их системы жизнеобеспечения.
Неизбежно теряя традиционные аспекты, система жизнеобеспечения коренных народов амуросахалинского региона приобретает новые, инокультурные. При этом она одновременно трансформируется и эволюционирует. Эволюционные изменения можно отметить в промыслах, транспорте, коммуникациях, внедрении новых материалов и технологий их использования в производстве необходимых для жизни вещей.
Заключение
Таким образом, понятие «культура жизнеобеспечения», разработанное отечественными учеными, включает не только материально-хозяйственную, но и духовно-социальную составляющую, что полностью соответствует двойственному пониманию человека - одновременно как биологического организма и как члена конкретного социума, этноса. Анализ структуры института жизнеобеспечения показывает, что практически одинаковую по важности функцию играют потребности добычи и распределения продовольствия, сохранения экологии, духовности и нравственности, заботы о стариках и подрастающем поколении. Культура жизнеобеспечения является необходимым механизмом эволюционных и трансформационных процессов этноса, от которых зависит поддержание этнокультурного, этнопсихологического, этногенетического баланса. Стратегии жизнеобеспечения структурируют, наполняют смыслом все компоненты локальной культуры для ее гармоничного развития.
В результате творчества отечественных ученых было окончательно доказано, что культура жизнеобеспечения представляет собой конгломерат материального и духовного производства, ориентированного на все жизненные потребности человека, а не только на базовые, не только на добычу и распределение пищевых и других необходимых ресурсов. С помощью концепции культуры жизнеобеспечения отечественным ученым удалось показать сложное соотношение между потребностями человека и социума разного уровня, мотивациями для их возникновения, выполняемыми функциями, в то время как их западные коллеги остановились лишь на классификации мате- риальных и духовных потребностей человека, не сумев объединить их в логично функционирующий комплекс. На основе этого методологического подхода удается плодотворно изучать проблемы жизнеобеспечения этносов, кардинально различающихся по языку, хозяйственно-культурному типу, территории проживания, специфике адаптации к окружающей среде, уровню социально-экономического развития. В качестве конкретного примера в данной статье были рассмотрены этнокультурные особенности жизнеобеспечения коренных народов амуро-сахалинского региона.