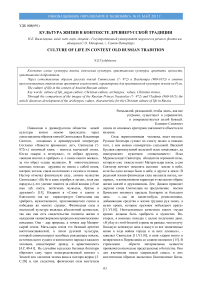Культура жизни в контексте древнерусской традиции
Автор: Выжлецова Наталья Евгеньевна
Журнал: Инновационное образование и экономика @journal-omeconom
Рубрика: История и философия
Статья в выпуске: 18, 2015 года.
Бесплатный доступ
Через сопоставление образов русских князей Святослава (?- 972) и Владимира (960-1015) в статье прослеживается становление архетипов и ценностей, характерных для христианской культуры жизни на Руси.
Культура жизни, языческая культура, христианская культура, архетипы, ценности, христианские добродетели
Короткий адрес: https://sciup.org/14321856
IDR: 14321856 | УДК: 008(091)
Текст научной статьи Культура жизни в контексте древнерусской традиции
Through the comparison of the images of the Russian Princes Svyatoslav (?- 972) and Vladimir (960-1015) the article discusses development of the archetypes, values, characteristic for the Christian culture of life in Russia.
Появление в древнерусском обществе новой культуры жизни можно проследить через сопоставление образов князей Святослава и Владимира Святого, созданных в древнерусской литературе. Согласно «Повести временных лет», Святослав (?-972гг.) типичный князь – воитель языческой эпохи. Когда «вырос и возмужал», то собрал дружину, «воинов многих и храбрых» и с ними «много воевал», за что обрел «славу великую». В многочисленных военных походах дружина не имела с собой возов, шатров, котлов, спала на потниках с седлом в головах. Нестор отмечал физическую силу, личное мужество Святослава ( «Бѣ бо и самъ хоробръ и легокъ, ходя аки пардусъ»), его умение повести за собой воинов («Уже нам здѣ пасти, потягнемъ мужьскы, братье и дружино!» [15]. Иларион в «Слове о законе и благодати» так же характеризует Святослава как храброго, мужественного, прославившегося силою и победами во многих странах. Физическая сила в языческой культуре являлась абсолютной ценностью, так как она есть свидетельство полноты жизни и овладения «животворными природно-космиическими» началами. Она – дар природы, а точнее дар Матери-сырой земли. Мать-сыра земля это базовый архетип восточнославянской, а затем русской культуры, который символизирует всеобщее рождающее начало, источник всего сущего и жизни всего народа и каждого человека, олицетворяет правду и нравственность [4.С.40-41]. Не случайно в русских былинах богатыри обретают силу через непосредственный контакт с Землей или «испития зелена вина в полтора ведра» [5. С.28] и, как следствие, физическая сила выступала
Размышляй, размышляй, чтобы знать, как все устроено, существует и управляется, и совершенствуется силой Божьей. Климент Смолятич одним из основных критериев значимости объекта или явления.
Сила, переполняющая человека, ищет выхода. Русские богатыри гуляют по «чисту полю» в поисках того, с кем можно «померятся» силушкой. Василий Буслаев сорокапудовой железной осью помахивает, да новгородских мужичков «пощелкивает»; Илья Муромец ищет Святогора, обладателя огромной силы, которую уже тяжело носит Матери-сыра земля, а сам Святогор мечтает поменять местами землю и небо, если бы одно кольцо было в небе, а другое в земле. В реальной жизни физическая сила находила выход, во-первых, в воинственном характере и «вольном» образе жизни князей и дружинников. Лев Диакон приводит дерзкие слова Святослава на предложение послов Цимисхия покинуть пределы Болгарии за большую дань: «...мы не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к жизни трудами рук своих, а мужи крови, которые оружием побеждают врага» [11.VI.10]. Неотъемлемым качеством такого «мужа крови» должны быть храбрость и мужество. Во-вторых, в военных походах с целью получения дани. «Я уйду из этой богатой страны не раньше, чем получу большую денежную дань и выкуп за все захваченные мною в ходе войны города и за всех пленных», -заявляет Святослав [11.VI.10], и взяв «даров много и возвратился в Переяславец со славою великою» [15]. В стремлении обрести материальные ценности проявляется языческое представление о богатстве. Оно для язычников имело сакральный смысл, в них мистическим образом заключено благоволение богов, воинская удача, благополучие их обладателя, его семьи, рода, [8. С.116; 7. С.72-73].
Согласно «Повести временных лет» Святослав был известен («поминаются нынѣ и словуть») своими морально-этическими принципами: личным примером в битве («азъ же перед вами пойду»), стремлением сохранять свое лицо перед дружиной («А дружина моя сему смеятися начнуть»), благородством по отношению к противнику («хочу на вы»); щедростью по отношению к дружинникам [15]. Щедрость князя по отношению к дружине лежала в основе их взаимоотношений и проявлялось в перераспределении дани и даров. Для князя это означало возможность, имея «мужей добрых», добыть «серебро и злато», одержать новые победы. Завоевательный пафос Святослава был направлен на расширение пространства его власти до Дуная и объявления Переяславца на Дунае «серединой земли», ибо «туда стекаются все блага: из Греческой земли — паволоки, золото, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха, и воск, и мед, и рабы» [15]. В.Н. Топоров отмечает, что увеличение и расширение в языческой картине мира понимается как результат действия жизненной плодоносной силы, а позднее как ее образ, символ.
Для дружинников получение из рук князя даров, части воинской добычи означало признания их воинских заслуг, подтверждение их достоинств, а самое главное, оно демонстрировали тесную связь дружины с князем. Ибо князь в языческую эпоху, будучи военачальником, религиозным лидером, воспринимался как сакральная фигура, наделенная исключительными качествами, силой, удачей. Принимая из рук князя материальные ценности, дружинники обретали частицу его «удачи и счастья», становились сопричастными княжеской славы. Слава князя, – это то пространство, в котором дружинник был обречен на военную удачу, приобретал социальный престиж, уважение. Выполнение морально-этических принципов, которым следовал Святослав, соответствует понятию чести, что для того времени означало «соответствовать принятым нормам поведения», быть понятым и принятым «сотоварищами» т. к. праславянское *čьstь, связанное со старославянским чьтѫ, чисти означает «понимание». Удостоится чести возможно было в том случае, если поступки, действия, поведение поняты и «сотоварищами» [8.С.113]. Князь должен был соответствовать требованиям дружинного образа жизни, его действия и поступки имели «самодовлеющую ценность». Дружинники, в свою очередь, обязаны были соблюдать верность князю, проявлять мужество, доблесть и храбрость.
Владимир Святой (ок. 960-1015гг.) в описаниях древнерусских книжников, с одной стороны, князь языческой эпохи, со всеми свойственными для этого времени принципами и нормами, а с другой, – человек, который уразумел «суету идольскыи лести» [15] и принял христианство. Иларион пишет о Владимире – язычнике, как «преуспевшем» в храбрости, мужестве, крепости (силе) и в «смыслености» князе, который покорял соседние народы, одних — миром, а «других, непокорных — мечом [19]. Нестор, описывая образ жизни и деяния князя Владимира, рассказывает о нем как об успешном воине, одержавшем многочисленные победы, как о великом киевском князе, заботившемся об укреплении своего государства, как о предводителе дружины, любившем своих товарищей, с которыми князь совещался «о строи земленем, и о ратех, и о уставе земленем» [15] и устраивавшего для них еженедельные пиры на княжеском дворе. Пиры языческой поры – это совместная трапеза, имеющая ритуальный смысл, участвуя в котором, каждый присутствующий на нем осознавал свою причастность к роду, племени, дружине. По словам русского историка Н.И.Костомарова, пир был душою общественной жизни на Руси. На них решались многие жизненно важные проблемы: о войне и мире, перераспределении дани и добычи, разрешались различные споры. Пиры эти изобиловали разнообразной едой и напитками, а «пирующий князь, – отмечал историк, – сделался идолом русского довольства жизни» [10].
Русские книжники при описании образа жизни и деятельности Владимира – язычника касались и таких проявлений, о которых Иаков Мних писал: «Акы звѣрь бяхъ, многа зла творях въ поганьствѣ и живяхъ акы скотина» [14]. Будучи ревностным язычником, Владимир воздвигал идолов языческим богам, свершал человеческие жертвоприношения, проявлял жестокость по отношению к врагам и пленным. Для него были свойственны все «добродетельства» варварского, языческого порядка - хитрость, коварство, неверность слову, разгульная жизнь. Древнерусские авторы отмечали многоженство Владимира и большое количество наложниц. Осознание принадлежности к природе, глубокой укорененности в ней, невыделенность человека из природы формировали мировосприятие через призму эротических представлений, формировали образ жизни, в котором половые, семейные отношения не были жёстко регламентированы. Иларион объясняет эти проявления как приверженность «земному». Отмеченные древнерусскими книжниками особенности Святослава и Владимира времен язычества, – это неслучайный их набор, а есть отражение архетипов, ценностей, характерных для языческого мира. «Повсюду, – писал С.М. Соловьев, – мы видим «проявления материальной силы, ей первое место, ей почет» [20.С.236]. Эти представления уходили корнями в седую древность и являлись, судя по всему, универсальными. В.В. Пузанов обращает внимание на то, что в «Повести временных лет» и в «Слове о законе и благодати» эпитеты славный, храбрый, мужественный, прославившийся силою и победами применяются только по отношению к князьям-язычникам [18].
Создавая образ Владимира – христианина, древнерусские книжники пишут о нем как о человеке, научившемся «по заповеди Божьей поступать, и жить добродетельно, по-божьи, и веру соблюдал твердо и непоколебимо» [14]. И как следствие, появляются новые приоритеты деятельности. Во-первых, совершенствование окружающего мира. Главной заслугой великого киевского князя Владимира книжники называют крещение Руси. «…Крестився самъ, и чяда своя, и всю землю Рускую крести от конца до конца…». Тем самым он «свободи всяку душу, мужескъ полъ и женескъ, святого ради крещения» «и всю землю Рускую исторже изъ устъ диаволъ» [15]. Иларион, Нестор, Иаков перечисляют сделанное князем за двадцать восемь лет по христианизации Руси: «украсил» землю русскую храмами, распорядился «пением и молитвами в церквах память святым совершать и праздники праздновать во славу и хвалу Богу», повелел «детей лучших людей ... отдавать в обучение книжное», заложил основы нового законодательства для «людей недавно познавших Бога».
Во-вторых, совершенствование себя как нового человека, как христианина, Иларион в крещении Владимиром русского народа усматривает подвиг, покрывающий его личные грехи и применяет к князю слова Апостола Иакова: Обративший грешнаго от ложнаго пути его спасает другого от смерти и покрывает множество грехов (Иак. 5, 20). А в личном крещении князя выделил «Любовь Христову», как образец выстраивания себя как «нового человека» отличного от «ветхого». Христова любовь учит долготерпению, милосердию, учит не завидовать, не превозноситься, не гордиться, не бесчинствовать, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, не радоваться неправде, а радоваться истине (1Кор.13:4-6). Иларион говорит, о том, что «благомыслием и острым умом постигнув» Бога, Владимир преобразился, став примером и образцом миролюбия, любви к ближнему, смирения. О преображении и духовном обновлении князя свидетельствовал Иаков Мних: «И каашеся и плакаше блаженый князь Володимеръ всего того, елико створи въ поганьствѣ, не зная Бога. Познавъ же Бога истиннаго, творца небу и земли, покаявся всего и отврьжеся дьавола и бѣсовъ, и всея службы его, и послужи Богу добрыми дѣлы своими и милостынею...»[14]. Жестокий и мстительный в язычестве, Владимир после крещения сделался, согласно свидетельствам древнерусских книжников, образцом кротости и любви. Он усомнился в своем праве «казнить разбойников» и завести «на новокрещеной Руси карательную юстицию по римско-византийскому образцу», как советовали греческие епископы. «Святые сомнения» князя объясняются Нестором не ссылками на существующие на Руси традиции наказывать преступления денежными штрафами — вирами, так как это было материально выгодно, а по-христиански однозначно — «боязнью греха». Грабеж и убийство, считавшиеся в язычестве признаком доблести, теперь осмысливаются как величайшие грехи. Источники приводят факты отказа от убийств у людей, несклонных воздерживаться от насилия, от кровной мести как “законного” права на убийство [6].
В-третьих, забота о «убогих, сиротах, вдовах, должниках» и всех, кто «взывает о милости». И этот вид деятельности древнерусские книжники выделяют, как «более всего», т.е. приоритетный. Иларион прославляет Владимира, который просящим подавая, нагих одевая, жаждущих и алчущих насыщая, болящих утешая, должников выкупая, рабам даруя свободу, буквально следовал евангельскому завету: «... Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне...» (Мф. 31-32). Нестор сообщает о том, что Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать то, что ему требуется: деньги, еду, питье. «Различен милования образ, и широка заповедь сия», писал Иоанн Златоуст, а согласно Иакову, великий киевский князь творил милостыню двояко. Во-первых, как личное подаяние каждому нищему, сироте, вдовице, слепому, хромому, всем страждущим. И, во-вторых, как осуществление княжеского служения по всей земле Русской, развозя по городам, и селам милостыню. Упоминает Иаков Мних о княжеских пирах, которые устраивались еженедельно. После принятия христианства в традиционных для Руси пирах появляются новое черты. Расширяется круг присутствующих, теперь это не только ближайший круг, а и священники и бедный люд. «Три трапезы» (т.е.стола) накрывал Владимир: «первую митрополиту съ епископы, и съ черноризцѣ, и съ попы; вторую нищимъ и убогымъ; третью собѣ, и бояромъ своимъ, и всѣмъ мужемъ своимъ» [14 ]. Пиры стали устраиваться в ознаменование больших религиозных событий. В «Повести временных лет» рассказывается о пирах на княжеском дворе в честь праздников Успения как дне всеобщего крещения киевлян и Преображения Господнего в память о личном крещении Владимира. В «... празникъ Преображению Господню ... Володимѣръ ... творяше празникъ, варя 300 переваръ меду. И зваше бояры своя, и посадникы, и старѣйшины по всимъ градомъ, и люди многы, и раздаваше 300 гривенъ убогымъ. И празнова князь Володимеръ ту дний 8, и възвращашеться Кыеву на Успение святыя Богородица, и ту пакы творяше празникъ свѣтель, съзываше бещисленое множьство народа» [15]. Не забывались и больные, которые не могли присутствовать на пирах, для них развозились блюда с княжеского стола. Сказочная щедрость поражала простой народ. Иларион, пишущий о князе Владимире спустя четверть века после его смерти, восклицал: «И щедроты и милости твои и поныне поминаются в народе». Память о них вошла в былины о ласковом князе Владимире Красное солнышко:
Во стольном городе во Киеве, У ласкова князя у Владимира Было пированьице почестей пир На многих на князей на бояров, На могучих на богатырей, На всех купцов на торговыих, На всех мужиков деревенскиих...
Историк русской церкви А.В. Карташев указывает на два христианских мотива в деятельности Владимира по организации пиров. Во-первых, используя всю силу государственной власти, все средства государственной казны, дать людям почувствовать, что у всех крещеных людей «одно сердце, одна душа», «все общее». Во-вторых, сохранить и расширить « всеобщий пир и всеобщую радость братолюбивой христианской жизни» [9. С.125]. Как свидетельствуют источники и исследования историков, пиры на Руси продолжались в традиционном формате, но новые мотивы вносили в «медопитие» высокие христианские добродетели: милость, нищелюбие, доброту.
Милосердие в деяниях Владимира ставится книжниками в один ряд с «правдой и крепостью», защитой Руси от кочевников и обозначаются как «более же всего». Нестор называет княжескую благотворительную деятельность как условие благополучия Русской земли. И тем самым, милосердие становится вопросом справедливости власти, «принципом государства вообще» [9. С.128]. Создавая, образ милосердного князя русские книжники создавали образец подражания, модель поведения для русских князей, переориентировали приоритеты их деятельности. Главным делом князя становилось служение миру на основе милосердия. Неслучайно Феодосий Печерский в послании Изяславу призывал князя быть милостивым по отношению каждому человеку, и сам был величайшим заступником страждущих и обездоленных. Владимирову примеру милосердия, попечение о слабых старался следовать Владимир Мономах и завещал своим детям: «Всего же паче убогых не забывайте, но елико могуще по силѣ кормите, и придайте сиротѣ, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте силным погубити человѣка»[17]. Даниил Заточник в контексте положения Священного писания «просящему у тебя дай, стучащему открой, да не отвергнут будешь Царствия Небесного», обращаясь к князю, напоминал о милосердии как необходимом и обязательном атрибуте княжеской власти:
...Да не будет, княже мой, господине,
Рука твоя согнута на подаяние неимущим, Ибо ни чашею моря не расчерпать,
Ни милостыней дома твоего не истощить.
Как невод не удерживает воду, а одних лишь рыб, Так и ты, княже, не удерживай злата и серебра, А раздавай людям....[21]
Православный монах, преподобный Феодосий Печерский, великий киевский князь Владимир Мономах, одинокий и нищий Даниил Заточник, принадлежа к разным сословиям, едины в понимании смысла и назначения мирской власти: служение миру на основе принципов милосердия и ее предельных нравственных оснований. Это был вызов традиционному пониманию княжеской власти, как расширению её пространства. Борьба за княжеские престолы, войны с соседями как оправданные, так и неоправданные, продолжались на Руси, но духовное, нравственное понимание власти тонкой ниточкой вплеталось в ткань древнерусской культуры жизни. Г.П. Федотов с сожалением подчеркивал, что русская власть не удержалась на этой высоте, подменив служение миру личным «властвованием».
Древнерусскими книжниками личная милостыня каждому нищему, убогому, бедному, призрение сирых, сострадание к недужным, слабым понимается как путь одухотворения, уподобления Богу, и подчеркивается, что для Владимира она стала неотъемлемой чертой поведения, непреходящим состоянием души. Исторические источники свидетельствуют о достаточно быстром вхождении милостыни в практику древнерусской жизни. Летописи, жития святых, желая подчеркнуть высокие нравственные качества героев, выделяют творение милости как обязательное в их деятельности. Писатель, фольклорист, этнограф конца XIX века С. В. Максимов отмечал, что «с тех самых пор, как завелась Христова вера на святой Руси», она сразу взяла «убогих и странных под свою крепкую защиту», твердо и решительно заявила , что «это -первые и ближние друзья Христовы», и формы милосердия были достаточно просты: «подача просящим, благотворение неимущим, помощь страдающим» [13]. Современный исследователь Т.Е. Покотилова связывает это с ее овеществленностью, относительной простотой воплощения, а также с традициями братства и равенства, свойственными родоплеменным отношениям, не ушедшим еще совсем в прошлое [16, С.26]. Но именно милосердие стало русским путем вхождения в опыт христианской жизни. Подаяние во внешнем своем проявлении имеет материальное выражение, но сила ее в том, что изначально она требует проявления сочувствия к страждущим, а через сострадание милостыня становятся работой души, которая в конечном итоге оборачивается обретением смирения. В древнерусском языковом сознании слово «смирение» было связано с понятием меры как обозначения «эталона правильности» [23. C.686], соответствия принятым нормам. С принятием христианства происходит переориентация на смыслы, связанные со словом мир в значениях мирный, тихий, кроткий, согласие, которые характеризуют внутренние состояние человека. «Смирение, если говорить о русском слове, – пишет митрополит Антоний (Сурожский), – начинается с момента, когда мы вступаем в состояние внутреннего мира: мира с Богом, мира с совестью и мира с теми людьми, чей суд отображает Божий суд; это примиренность» и, склоняясь перед волей Божией, человек получает благословление и вступает «в подвиг творение дела смирения» [3.С.117,118,119]. Смирение в православии ориентирует на Первообраз как абсолютный идеал и ценность: «Научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем …» (Мф. : 11, 29) и направляет продолжать Его духовный опыт, формирует весь комплекс христианских ценностей.
Иларион, обращаясь к Владимиру, говорит о результатах его христианской миссии: «...посмотри же и на благоверную сноху твою Ирину, посмотри на внуков твоих и правнуков: как они живут, как хранимы Господом, как соблюдают правую веру, данную <им> тобой, как прилежат к святым церквам, как славят Христа, как поклоняются имени его. Посмотри же и на град <твой>, величием сияющий, посмотри на церкви процветающие, посмотри на христианство возрастающее... » [19], и подчеркивает, что именно этим великий киевский князь стяжал славу и честь на небесах. Слава Владимира – это уже не языческая слава ради «мира сего», а праведный труд во имя Бога. Это не признание заслуг человека и его социального статуса со стороны общества, а признание его «дел и слов» самим Богом. « Соделал тебя Господь на небесах сопричастником одной с ним славы и чести <в награду> за благочестие твое, которое стяжал ты в жизни своей» [19]. Иаков Мних, Иларион особо подчеркивали, что славу Владимир заслужил не чудесами, а своими конкретными деяниями по утверждению православной веры на Руси. Эту установку на активную, подвижническую, деятельную жизнь, сформулированную апостолом Иаковым словами: «вера без дел мертва», продолжит сын Владимира Ярослав Мудрый, внук Владимир Мономах, который выразил ее в концепции «малых дел», она проходит через всю русскую религиозную литературу. «Не будь праззден, трудись. Лень - мать всех греховх» [17], – дает наказ Мономах своим потомкам.
Древнерусские книжники создают идеальный образ Владимира, который по свидетельству историков, мало соответствовал реальному киевскому князю, но, не являясь исторически достоверным, он задавал направление, поведенческий код христианской культуры жизни на Руси. Следование, а точнее, подражание этому образцу со стороны других, означало прорыв к новым реалиям, которые должны были стать ступенями восхождения от дохристианско-языческих представлений к христианским, способствуя увеличению духовности в русской жизни. В этом контексте просматривается и становление культа святых Бориса и Глеба.
Говоря о Борисе и Глебе, следует обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, они младшие сыновья Владимира, рожденные в браке с византийской принцессой Анной уже после крещения, во-вторых, они первые русские святые. Их жизнь, смерть, канонизация, как они представлены в источниках, демонстрируют первый итог самоопределения Руси в пространстве христианских ценностей. Борис и Глеб принимают добровольно смерть от своего брата, чтобы не нарушить заповеди о любви ко всем людям, даже к врагам и убийцам. Борис с готовностью отказывается от завещанного ему киевского престола, чтобы не сделать власть земную высшей ценностью. Князья-великомученики, приняв добровольно смерть, повторяют путь Иисуса Христа и реализуют на практике христианские добродетели: смирение, любовь к ближнему и любовь к Богу. Поведение Бориса и Глеба в контексте нового религиозного сознания стало проявлением не слабости, а силы, но силы не материального, а высшего духовного порядка. Новые христианские ценности, осуществляемые и воссоздаваемы вновь и вновь и каждым отдельным человеком, и обществом в целом, формировали культуру жизни, противоположную языческой. В этой сложной духовной работе создавались не только ценности, нормы, смыслы и цели нового образа жизни, но и соответствующие им формы поведения, реальные пути и способы их достижения, на века определив исторические судьбы народов православной Руси – России.
Список литературы Культура жизни в контексте древнерусской традиции
- Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности//Новый мир, 1988. №6.
- Аничков Е. В.Язычество и древняя Русь. -СПб. -1913.
- Антоний, митрополит Сурожский. Образ смирения в православном самосознании//Человек перед Богом. -М.: Паломник, 2000. -383с.
- Большаков В.П. Володина Т.В., Выжлецова Н.Е. Своеобразие русской культуры в ее историческом развитии. -Великий Новгород: Изд-во НовГУ им. Ярослава. -193с.
- Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века.-М.:Мысль, 1992. -637 с.
- Горский А.А. Эволюция отношения к убийству в Древней Руси//Мир истории, 2001, №2. http://www.//tellur.ru/historia/archive/02-01/evol.htm
- Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе: Уч. пособие.-М.: Высшая школа, 1970.-224 с.
- Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XIIвв.): курс лекций. -М.: Аспект-Пресс, 1998. -399 с.
- Карташев А.В. Собание сочинений:В.2т. Т.1 Очерки по истории русской церкви. -М.:Терра,1992. -686с.
- Костомаров Н.И. Черты народной южнорусской истории//http://az.lib.ru/k/kostomarow_n_i/text_1861_cherty_narodnoy_istorii.shtml
- Лев Диакон История. -М.:Наука,1988. http://www.redov.ru/istorija/istorija_knigi_1_5/p1.php
- Лотман Ю. М. Об оппозиции «честь» -«слава» в светских текстах киевского периода//Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т.т. Т.II. Таллинн, 1992, с. 111-126.
- Максимов С. В.Собр. соч.: в 20 т. СПб., 1877. Т. 5: Бродячая Русь Христа ради. -СПб.: Издательство: Типография товарищества «Общественная польза» 1877. -480с. С. 158.
- Память и похвала князю русскому Владимиру (Подготовка текста, перевод и комментарии Н.И. Милютенко)//Библиотека литературы Древней Руси/РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. -СПб.: Наука, 1997. -Т. 1: XI-XII века. -http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869.
- Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О.В. Творогова)//Библиотека литературы Древней Руси/РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. -СПб.: Наука, 1997. -Т. 1: XI-XII века. -http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
- Покотилова, Т.Е. Благотворительность в социальной истории дореволюционной России: мировоззрение и исторический опыт: Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук (07.00.02) Ставрополь, 1998. -39 с.
- Поучение Владимира Мономаха (Подготовка текста О. В. Творогова, перевод и комментарии Д. С. Лихачева)//Библиотека литературы Древней Руси/РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. -СПб.: Наука, 1997. -Т. 1: XI-XII века. -http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869.
- Пузанов В.В. Социокультурный образ князя в древнерусской литературе//Русские древности. Труды исторического факультета СПбГУ. Том 6. СПбГУ, 201. -С.128 -152.
- Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона (Подготовка текста и комментарии А.М. Молдована, перевод диакона Андрея Юрченко)//Библиотека литературы Древней Руси/РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. -СПб.: Наука, 1997. -Т. 1: XI-XII века. -. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
- Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 1. 752с.
- Слово Даниила Заточника(Подготовка текста, перевод и комментарии Л.В.Соколовой)// Библиотека литературы Древней Руси/ РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. - СПб.: Наука, 1997. - Т. 1: XI-XII века. //http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
- Стефанович П. С. Древнерусское понятие чести по памятникам литературы домонгольской Руси//Древняя Русь. 2004. № 2. -С. 63-87.
- Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. -М.: Школа «Языки русской культуры», 1995-1998. -Т. 1: Первый век христианства на Руси. -М. 1995. -С.874.
- Черный П.Я Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2т. -Издательство: Русский язык, 1994. -Т.2. -260с.