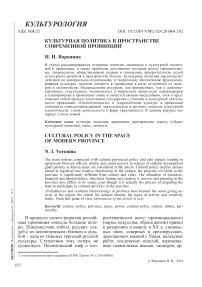Культурная политика в пространстве современной провинции
Автор: Воронина Наталья Ивановна
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные понятия, связанные с культурной политикой в провинции, а также проблемы достижения согласия между официальными, творческими, общественными силами в отношении приоритетности целей культурного развития в пространстве России. Культурная политика предполагает действия по материально-техническому и творческому обеспечению функционирования культуры, наличие которого в провинции в разы отличается от центров и мегаполисов. Распределение ресурсов, как финансовых, так и административных, структурных, человеческих и творческих происходит неравномерно и планирование в провинции также отличается своими масштабами, хотя и представляет собой процесс подготовки государства к участию в культурной деятельности провинции. «Полиэтничность» и «переплетение культур» в провинции становятся смыслопорождающей деятельностью в регионе, поиском культурной идентичности, типов деятельности и форм креативности. В данном ракурсе материал статьи новый.
Культура, политика, провинция, пространство, власть, субъект культурной политики, этнос, личность
Короткий адрес: https://sciup.org/14720115
IDR: 14720115 | УДК: 008:32 | DOI: 10.15507/VMU.024.201404.192
Текст научной статьи Культурная политика в пространстве современной провинции
В процессе своего развития российская провинция понесла большие потери. Повсеместная гибель русских усадеб с их неповторимым обликом и судьбой – одна из тяжелых трагедий русской культуры. Статистики этих потерь не существует. Политический миф о вто-
ростепенности всего провинциального (науки, искусства, образа жизни) привел к разорению и вывозу в ХХ в. уникальных икон, северных и среднерусских, драгоценных камней с Урала, палехских работ, хохломских изделий, перемещению талантливых певцов, танцоров, ар-
Статья выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 12
-03-00095а
хитекторов, спортсменов в столицу. Эти меры привели провинцию к лишению особого духовного импульса, самобытных этических, эстетических, гражданственных основ, ее универсальных гуманистических традиций.
На современном этапе очевидно, что мировая культура настолько же немыслима без провинциальной, насколько Россия ХХI в. – без провинции. Чтобы понять россиянина, недостаточно оценивать только столичный менталитет. Российская культура прирастает за счет провинции, завоевывает умы, синтезируя социальность и гуманизм в биосоциальной природе человека. При этом термин провинция в лексиконе российской культуры имеет целый спектр отрицательных значений. С одной стороны, это официальное признание вторич-ности, второсортности, отдаленности от центров культуры. С другой – «негативное переживание» непосредственного провинциального существования на границе между культурой и ее отсутствием [7, с. 38].
Отметим, что это является результатом отсутствия положительной культурной политики и наличие отрицательной. Мы не считаем целесообразной точку зрения о том, что вестернизация духовной жизни России осуществлялась посредством действия отдельных лиц и организаций. Американизация телевидения, радио, книгоиздательской деятельности, образования, языка, одежды, по нашему мнению, скорее всего, направлена на преодоление в россиянине носителя национальной культурной традиции, устранение духовных и психологических препятствий капитализации страны и т. д. Именно поэтому речь может идти как о кризисе культуры, так и о ее возрождении или, точнее, модернизации (поскольку именно она предполагает изживание этих болезненных процессов).
Культурный кризис – понятие историческое. Проверяя его историей, сравнивая современную эпоху с прошлым, придадим этому понятию определен- ную объективную форму, поскольку известны не только обстоятельства возникновения и развития культурных кризисов прошлого, но и их завершающая стадия. Несмотря на то, что историческое вскрытие такого рода не всегда предоставляет необходимый прогноз, мы считаем неразумным игнорировать накопленный опыт прошлого.
Например, М. С. Каган отмечал, что «обнаружение переходных фаз в историческом процессе позволяет, во-первых, с предельной наглядностью выявить динамизм развития и его направленность, его внутреннюю логику, во-вторых, данные этапы исторического движения интереснее тем, что отличаются особой сложностью: сравнительно с однозначными качественно-определенными стадиями переходные фазы двузначны, внутренне противоречивы и синтетичны, амбивалентны и диалогичны» [5, с.180–181], в них одновременно присутствует и прошлое, и будущее, причем то в остром противоборстве, то в причудливых «противоестественных» сочетаниях, то в удивительных, тяготеющих к гармонии синтезах.
В провинции культурная политика также представляет собой систему взаимосвязанных целей, практических задач и средств, направленных на определенную группу: этнос, субэтносы, а также малые города, районы, села. Культурная политика может осуществляться в рамках объединения, партии, образовательного движения, организации, предприятия, города, правительства. При этом независимо от субъекта политики она предполагает «существование долгосрочных целей, измеряемых задач и средств (человеческих ресурсов, финансов и законодательной базы), объединенных в чрезвычайно сложную систему» [4].
Культурная политика предполагает действия по материально-техническому и творческому обеспечению функционирования культуры, наличие которого в провинции сильно отличается от центров и мегаполисов. Распределение
Серия «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
ВЕСТНИК Мордовского университета | 2014 | № 4
ресурсов (финансовых, административных, структурных, человеческих и творческих) происходит неравномерно; планирование также отличается своими масштабами, хотя и представляет собой процесс подготовки государства к участию в культурной деятельности провинции.
Это позволяет, во-первых, констатировать наличие определенного разрыва между определениями культурной политики, даваемыми культурологами-теоретиками и теми, кто решает задачи реального управления в сфере культуры; во-вторых, разделяет эти процессы на столичные и провинциальные.
«Нельзя отрицать, что центры всегда и везде жили более или менее заимствованной жизнью <…> не сами создавали свою силу, а при помощи того материала и тех рабочих сил, как в физическом, так и в духовном смысле, которые к ним приливали больше извне, из “глуши”, из “Саратова”. И Вавилон, и Ниневия, и Афины, и Рим – все эти города-чудовища питались соками своих провинций, и когда эти соки иссякли, иссякла и жизнь самих чудовищ <…> Поэтому лишь при известном равновесии между центрами и провинцией возможна жизнь и тех, и других, и развитие или упадок последних неизбежно должны отражаться самым роковым образом на первых», – констатировал нижегородский историк А. С. Гацис-ский [2, с. 50].
Отметим, что постиндустриальная экономика – это экономика переживаний, впечатлений, творчества, и очевидно, что под влиянием научно-технической революции и повышения уровня жизни постиндустриальные страны перешли от преимущественного производства товаров к производству услуг. Основные ресурсы, обеспечивающие благополучие экономических регионов – информация, знания и творческая способность, то есть способность порождать новое. Это требует работы на опережение, вхождение территории в постиндустриальное пространство.
Следует отметить, что культурное поле России остается узким, консервативным и в значительной мере идеологизированным, и именно этим объясняется «сопротивление» не только культурным, но и другим изменениям: политическим, экономическим, социальным.
Тем не менее «сознание определяет бытие никак не меньше, чем бытие определяет сознание. Без высокой культуры невозможна сильная экономика. Одна из важнейших причин нынешнего кризиса – многолетнее «выпалывание» плодоносных культур и торжество сорняка. Рекультивация сегодня также необходима, как экономические реформы. Требуется кардинальный пересмотр отношения к человеческой сокровенности, субъективности, к вестничеству, визионерству, к идеализму, декаденству, модернизму, ибо, как выясняется, между количеством хлеба и стихами Малларме или джойсизмами существует отнюдь не мистическая связь» [1, с. 5].
Соглашаясь с И. И. Гариным, отметим, что исходное условие разработки политики в сфере культуры – это достижение понимания между официальными, творческими, общественными силами в отношении приоритетности целей культурного развития. Культурная политика является сознательным регулированием в при принятии необходимых решений по всем вопросам, относящимся к культурному развитию общества в целом.
Необходимым условием разработки культурной политики является наличие политического пространства. В данном случае политика рассматривается как сфера управления государством и его регионами, а как дискуссионная среда (пространство дискуссий), в которой различные социальные группы столиц и провинций могут представлять, обсуждать и согласовывать свои интересы. По нашему мнению, культурная политика должна быть предметом общественного обсуждения, критики и поправок. Именно появление оппонентов и учет их мнения делают реализацию социально-культурной программы куль- турной политикой как в стране в целом, так и в каждом субъекте государства.
Одна из наиболее важных проблем – несоответствие системы расселения и пространственного развития актуальным задачам инновационного развития. Россия – централизованная страна, где ядром все финансовых, транспортных, миграционных и культурных потоков является Москва (в меньшей степени – Санкт-Петербург). Причина этого не только в особенностях устройства транспортной или финансовой системы: централизация обусловлена системой государственного управления, которая неуклонно стремится к выводу из-под влияния региональных властей экономически успешных секторов (промышленность, добыча полезных ископаемых, ведущие образовательные учреждения). В результате в компетенции регионов остаются наиболее проблемные сектора (социальная сфера, культура) и отсутствует накопление достаточных ресурсов для развития.
Названные выше факторы приводят к катастрофическому сокращениию человеческих ресурсов, вплоть до их исчезновения на отдельных территориях. Категория субъекта культурной политики в предлагаемых определениях или отсутствует, или присутствует неявно. Однако чем в большей степени расширяется субъектное поле культурной политики, тем более значительную роль в ней начинает играть субъект, или актор. Все это предполагает необходимость выработки в перспективе такой категории культурной политики, где субъектная составляющая была бы представлена в достаточном объеме. Это тем более оправданный шаг, что в других сферах научного знания (социология, психология, политология и др.) разработка категории актора проводится интенсивно и дает позитивные результаты.
Рассмотрим в качестве примера г. Саранск – столицу Республики Мордовия, провинциальный город, являющийся в то же время университетским, обладающий богатыми традициями ес- тественно-научного, инженерного и гуманитарного образования. Отметим, что ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва» получил статус национального исследовательского университета (НИУ). Также пользуются авторитетом саранская культурологическая школа Н. И. Ворониной, социологическая – А. И. Сухарева, политологическая – Д. В. Доленко, а также работы их представителей в области провинциальной, этнической и региональной культуры и политики. Исследования такого рода создают предпосылки для выбора устойчивого «регионоцентричного» пути для Мордовии. На современном этапе это особенно важно в области формирования «республиканской идентичности» в связи с существенным оттоком населения.
Как научно-исследовательский центр университет является ведущим в двух перспективных направлениях: ПНР-1 (нанотехнологическое, связанное с прорывом в светотехнической, полупроводниковой и оптоволоконной промышленности) и ПНР-2 (гуманитарное, связанное с исследованиями традиций и инноваций в финно-угорской культуре).
В Саранске работают ведущие культурные центры, сохраняющие и популяризирующие наследие выдающихся деятелей культуры и науки – Мордовский театр оперы и балета им. И. М. Яуше-ва, Музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Институт национальной культуры, Этнографический музей народного мордовского искусства и др.; кроме этого, были открыты центры и подворья русской, мокшанской и эрзянской культуры. Однако следует отметить, что все это редко становится достоянием россиян, а также в большинстве своем пока еще закрыто и для активного международного общения.
В последние годы провинциальный Саранск стал спортивной столицей, создал идеальные условия для, школы спортивной ходьбы В. М. Чегина международного класса для развития биатлона, тяжелой атлетики и фигур-
Серия «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
ВЕСТНИК Мордовского университета | 2014 | № 4
ного катания. Также были построены Центр Олимпийской подготовки, биатлонный центр, десятки ледовых и водных дворцов, множество ФОКов. Этот «спортивный ландшафт», безусловно, является фактором продуманной культурной политики правительства республики, не только о спортивных достижениях, которые растут с каждым годом, но и заботой о здоровом образе жизни населения.
Заметим, что для изменения ситуации в культуре недостаточно развития физической инфраструктуры, на создание которой могут уйти десятилетия и сотни миллиардов долларов. «Решение должно быть найдено в области развития так называемых “мягких инфраструктур”: нового образа жизни, комфортной атмосферы и среды, современных гуманитарных технологий, малого предпринимательства, инноваций в культуре и образовании, а также реализации крупных культурных проектов, позволяющих единовременно повысить уровень “капитализации” региона на глобальном рынке, в том числе недвижимости и культурно-бытовых ландшафтов. Региональное развитие должно идти в ногу с культурной и образовательной политикой», - так определено в «Концепции культурной политики Пермского края» [6].
В этом отношении Саранск за последние 5 лет изменился до неузнаваемости. В инфраструктуре появились значительные градообразующие объекты: величественные храмы, здания двух театров и филармонии, новые площади с фонтанами, монументальная, городская и парковая скульптура, благоустроенная набережная р. Саранки, множество новых скверов, парков и др. Современная городская среда форматируется под различные группы интересов (детские, молодежные, семейные, для пожилых людей), а любая коммуникационная площадка – это сфера культурного креатива. Современная комфортная среда обитания подразумевает практичность, эстетику и благоприятные экологические условия. Участие дизайнеров и архитекторов в создании жилья нового типа делает городскую среду более антропоцентричной; новые арт-объекты обогащают визуальное и расширяют смысловое и символическое пространство.
Активно развивается также инфраструктура внутригородского туризма, обеспечивающая жителям республики доступ к разнообразным и разноплановым событиям, происходящим в Саранске.
Таким образом, намечается ясная тенденция к реабилитации культурной роли провинции, «явно обозначается поворот сознания к местной, локальной культуре, генетической основе всех русских культурных традиций, ни в коей мере не отменявшей единства русской культуры как целого» [3, с. 171–172]. Именно поэтому полиэтничность и переплетение культур в провинции становятся не только смыслопорождающей деятельностью, поиском культурной идентичности, типов деятельности и форм креативности, но и в ряде случаев создает большие трудности для совместимости различных традиций и верований.
Очевидно, что социальный кризис обернулся для россиян кризисом идентичности. Сложившаяся в российском обществе сложная ролевая и статусная диспозиция актуализирует проблему различения , поскольку решение ежедневных обыденных вопросов и успешная коммуникация субъектов требуют, с одной стороны, узнавания или друг друга, а с другой – корректного разграничения «своих» и «чужих».
Процесс идентификации с новым жизненным стилем протекает далеко не так, как подразумевает его идеальная теоретическая модель: скорее, это процесс, осуществляемый в противоположном направлении. С одной стороны, происходит переход из теоретической модели стиля жизни в реальный, практический способ самовыражения личности. С другой – человек всячески стремится преодолеть свое нынешнее неопределенное положение, осваи- вая выбранный им новый стиль жизни. Осознав свое место в социальной иерархии, он, как правило, выбирает стиль, соответствующий своему социальному статусу.
Сначала происходит освоение внешних признаков идентификации (поведение, одежда, лексика…). Потом, в результате освоения личностью той или иной теории (нередко – с научной точки зрения), в обыденной жизни появляется то, что в социологии повседневности получило название повседневных теорий . Как правило, это некоторая совокупность высказываний, иногда даже просто носящих характер предрассудков, – представлений о человеке, мире или какой-то его части, которые могут не иметь системного характера.
Процесс идентификации завершается оформлением нового, соответствующего данным стилю и культуре, образа жизни. Внешняя индикация личности заполняет собой все сферы жизни человека: так или иначе строить свое жилище, заботится о здоровье, питаться и отдыхать становится не просто возможным, а необходимым, благодаря особенному и характерному мировоззрению, а не требованиям престижа, имиджа или веяниям моды.
Заметим, что в России в начале XXI в. продолжается переходный период, в котором остро ощущается кризис культуры и идентичности. Под воздействием социально-экономических и политических катаклизмов образ человека часто разрушается, поскольку как в столице, так и в провинции происходят изменения на всех уровнях повседневного бытия: во взаимоотношениях с близким и дальним окружением, самоопределении человека в жизненном пространстве, семье, культуре, образовании, информационных технологиях, языке и речи, рекламе и т. д.
Однако именно в это время складывается новая школа – воспитание «человека культуры», в которой акцентируется внимание не только на образовании, но и на вхождении в мир культуры.
Образование рассматривается как творческий акт (гуманизирующий, гуманитарный, человекообразующий подход), стремление к междисциплинарному синтезу науки, образования и культуры, целостной модели развивающейся личности (на психологическом, социальном и культурном уровнях). При этом культурный тип – это многомерная личность с «диалогом разных культур, разных сознаний» (М. М. Бахтин).
Метод бахтинского диалога стал основой технологических идей школы воспитания «человека культуры». Однако его не достаточно, поскольку на современном этапе особо значимым является полезное знание, приносящее экономическую выгоду с наименьшей затратой времени и сил. Таким образом, современный, конкурентноспособный, человек – это прагматик и романтик, художник и предприниматель, эстетик и практик .
Современная социокультурная ситуация в стране является достаточно сложной. Без активной государственной поддержки разрушается материальная база сферы культуры, закрываются культурно-просветительские учреждения, сокращается прием в государственные вузы, на «голодном пайке» многие НИИ не получают достаточного финансирования и т. д. Происходит не только стихийное (через кинопродукцию и др. каналы), но и вполне сознательное (через спонсорскую помощь, обучение наших студентов за рубежом и т. д.), освоение российского интеллектуального пространства западной культурой.
Неравномерное развитие провинциальной культуры до настоящего времени остается естественным явлением. Непрерывное возвышение возможно только в центре, поскольку именно он обеспечивает приток лучших кадров провинции. Очевидно, что для последней это является пагубным в связи с чем нельзя не отметить новые тенденции, появившиеся в культурной политике локальных территорий. Например, выявление специфических черт местной культуры
Серия «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
и помещение их в совокупность российского многообразия, а также выделение черт, присущих провинции как центру разнообразных культурных явлений, к которому тяготеют собственные провинции (Пермь – центр российского балета; Суздаль – уникальное пространство храмовой архитектуры; Палех, Жестково, Гжель, Вологда, Оренбург, Архангельск и многие другие – центры художественных промыслов; Казань – светомузыки и т. д.). В настоящее время Россия переходит к формированию основы другой культуры и культурной политики, направленной не на создание готовых продуктов и услуг, а на запуск процессов, актуализирующих культурные ресурсы самих территорий, что является способом поиска человеческой идентичности и формирования особого образа и стиля жизни на территории. Подчеркнем, что в основе организации подобной культурной политики стоит человек как ее создатель, актор, исполнитель, хранитель и субъект. Именно такая деятельность человека является основной составляющей и движущей силой культуры, предоставляющей возможности для осуществления динамичной и выверенной культурной политики в пространстве, как провинции, так и всей Российской Федерации.
ВЕСТНИК Мордовского университета | 2014 | № 4
СПÈСÎÊ ÈСПÎËЬЗÎВÀÍÍЫХ ÈСТÎЧÍÈÊÎВ
-
1. Гарин, И. И. Вступление / И. И. Гарин // Поэты и пророки : в 7 т. – Москва, 1992. – Т. 2. – С. 5.
-
2. Гацисский, А. С. Печать в провинции // Дело. – 1875. – № 9. – С. 50–53.
-
3. Girard, A. Cultural Development : experiences and policies, 2nd ed. / A. Girard, G. Gentil. – Paris : UNESCO, 1983. – P. 171–172.
-
4. Дергачева-Скоп, Е. И. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири [Электронный ресурс] / Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – URL: http://referat . atlant.ws/?Cm=6101.
-
5. Каган, М. С. Системный подход и гуманитарное знание / М. С. Каган // Избранные статьи. – Ленинград, 1991. – С. 170–181.
-
6. Концепция культурной политики Пермского края : Пермский проект [Электронный ресурс]. – URL: http://vsesvoi.ru/data/addons/Konsept-Perm-20_09_2010.pdf .
-
7. Скоробагацкий, В. В. Провинция как феномен русской культуры / В. В. Скорогабарицкий // Социемы, 1994. – С.35–39.
Поступила 16.09.2014 г.
Об авторе :
About the author :
Серия «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки»
Список литературы Культурная политика в пространстве современной провинции
- Гарин, И. И. Вступление/И. И. Гарин//Поэты и пророки: в 7 т. -Москва, 1992. -Т. 2. -С. 5.
- Гацисский, А. С. Печать в провинции//Дело. -1875. -№ 9. -С. 50-53.
- Girard, A. Cultural Development: experiences and policies, 2nd ed./A. Girard, G. Gentil. -Paris: UNESCO, 1983. -P. 171-172.
- Дергачева-Скоп, Е. И. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири /Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. -URL: http://referat. atlant.ws/?Cm=6101.
- Каган, М С. Системный подход и гуманитарное знание/М. С. Каган//Избранные статьи. -Ленинград, 1991. -С. 170-181.
- Концепция культурной политики Пермского края: Пермский проект . -URL: http://vsesvoi.ru/data/addons/Konsept-Perm-20_09_2010.pdf.
- Скоробагацкий, В. В. Провинция как феномен русской культуры/В. В. Скорогабарицкий//Социемы, 1994. -С.35-39.