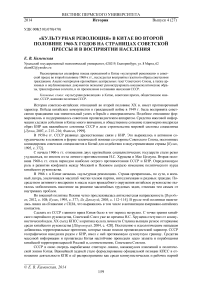«Культурная революция» в Китае во второй половине 1960-х годов на страницах советской прессы и в восприятии населения
Автор: Каменская Е.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История советского общества
Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается специфика показа проводимой в Китае «культурной революции» в советской прессе во второй половине 1960-х гг., исследуется восприятие газетного образа советскими гражданами. Анализ материалов крупнейших центральных газет Советского Союза, а также архивных и опубликованных документов позволяет реконструировать внешнеполитические образы, транслируемые в печати, и их преломление в сознании населения СССР.
"культурная революция" в китае, советская пресса, общественное мне, ние, ссср, внешняя политика ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147203580
IDR: 147203580 | УДК: 008(510):070(470)
Текст научной статьи «Культурная революция» в Китае во второй половине 1960-х годов на страницах советской прессы и в восприятии населения
История советско-китайских отношений во второй половине XX в. имеет противоречивый характер. Победа китайских коммунистов в гражданской войне в 1949 г. была воспринята советскими гражданами как значительный успех в борьбе с империализмом. Подобное отношение формировалось и поддерживалось советским пропагандистским аппаратом. Средства массовой информации уделяли событиям в Китае много внимания, в общественное сознание планомерно внедрялся образ КНР как важнейшего союзника СССР в деле строительства мировой системы социализма [ Лукин , 2007, с. 215–216; Фатеев , 1999].
В 1950-е гг. СССР развивал дружественные связи с КНР. Это выражалось в активном сотрудничестве в основном в форме технической помощи со стороны Советского Союза, постоянных командировок советских специалистов в Китай для содействия в индустриализации страны [ Кулик , 1995, с. 372].
С начала 1960-х гг. отношения двух крупнейших социалистических государств стали резко ухудшаться, во многом из-за личного противостояния Н.С. Хрущева и Мао Цзэдуна. Вторая половина 1960-х гг. стала периодом наиболее острого противостояния СССР и КНР. Определяющую роль в развитии конфликта между Москвой и Пекином сыграло изменение политического курса китайского руководства.
В 1966 г. в Китае началась «культурная революция». Страна превратилась, по сути, в военный лагерь, увеличивался масштаб чистки членов партии, интеллигенции и рядовых граждан. Посредством активного внедрения в массы идеи враждебного окружения китайское руководство пыталось мобилизовать население на решение масштабных трудовых задач, отвлекая тем самым от внутренних проблем.
Во внешней политике Пекина четко прослеживалась антисоветская направленность [ Воробьев , 2012, с. 108; Кулик , 1995, с. 377; Ли Даньхуэй , 2005, с. 112–114]. В русле этой политики наметилась линия на сближение с США, что выражалось в том числе в активизации американо-китайских контактов.
Сделать из СССР главного врага Китая было в тот период нетрудно. С точки зрения китайского партийного руководства, Советский Союз уже во времена Н.С. Хрущева отступил от коммунистической идеи. XX съезд КПСС и критика культа личности Сталина вызвали резкое отторжение среди китайского руководства [ Широкорад , 2004, с. 428]. Постепенно к идеологическим нападкам добавились территориальные претензии, которые также носили пропагандистский характер. СССР географически находился рядом с КНР, имел с ней протяженную сухопутную границу. Средства массовой информации и пропаганды Китая настойчиво проводили идею захвата и порабощения китайской территории царской Россией и, соответственно, Советским Союзом.
СССР в свою очередь вырабатывал ответную линию, касающуюся изменений в политической жизни Китая. Важнейшей задачей стало формулирование официальной позиции КПСС в отношении деятельности КПК и её распространение как среди коммунистических и рабочих партий
всего мира, так и среди рядовых граждан Советского Союза.
«Культурная революция» в Китае и советско-китайские отношения во второй половине 1960-х гг. давно являются объектом внимания исследователей [ Галенович , 2001, 2002; Мельников , 2009; Усов , 1998; Фролов , 2007; Широкорад , 2004 и др.]. При этом проблема отражения событий в Китае и реакции на них руководства СССР в советских СМИ, а также влияния официальной информации на общественные настроения до настоящего времени изучена мало1.
В представленной статье анализируются образ «культурной революции» в Китае, существовавший в советской центральной печати, и его восприятие советскими гражданами. Источниковой базой исследования стали, во-первых, материалы крупнейших центральных газет СССР («Правда», «Известия», «Труд», «Литературная газета», «Советская Россия», «Комсомольская правда»), во-вторых, отчеты о трудовых и партийных собраниях, посвященных обсуждению событий в Китае и советско-китайских отношений, за 1966–1969 гг., сводки о вопросах, задаваемых населением на лекциях и политинформациях, письма граждан в органы власти, результаты социологических исследований, а также дневниковые записи и воспоминания представителей творческой интеллигенции.
Кратко охарактеризуем образ Китая, существовавший в советской прессе накануне «культурной революции». После отставки Н.С. Хрущева, несмотря на серьезные разногласия между СССР и КНР, советское руководство не шло на открытый конфликт с Пекином, в том числе в средствах массовой информации. Ф. М. Бурлацкий в своих воспоминаниях приводит слова министра иностранных дел А.А. Громыко, требовавшего говорить «по-новому, тепло… о нашей неизменной дружбе с китайским народом» [ Бурлацкий , 1990, с. 318]. Контент-анализ материалов советской прессы за 1965 г. показывает, что количество публикаций о Китае составляло около 12% от общего числа статей о социалистических странах. Это был достаточно высокий показатель. Чаще внимание читателей обращали на Польшу, ГДР и, естественно, на Демократическую Республику Вьетнам, находящуюся в состоянии войны. Критический настрой в публикациях отсутствовал. Судя по газетным материалам, в это время Китай находился пусть и не в самом близком советском окружении, но не выражал негативного отношения к СССР и был солидарен со многими его действиями, в частности, относительно войны во Вьетнаме2. Изредка читатели даже могли отмечать проявления дружественности в советско-китайских отношениях, к примеру, в виде деятельности общества советско-китайской дружбы, посещения СССР делегациями из КНР.
Начало «культурной революции» в 1966 г. кардинально изменило образ Китая в печати. В 1966–1967 гг. наблюдалось явное уменьшение количества статей, посвященных КНР. При этом материалы прессы стали носить отрицательный характер. Необходимо отметить, что население знакомилось с ситуацией в КНР не только благодаря чтению газет и журналов, которые выписывались в огромном количестве, но и на многочисленных собраниях, лекциях о международном положении, политинформациях. Проанализируем основные позиции указанных изданий при освещении ситуации в Китае и их восприятие советскими гражданами.
«Культурная революция» в Китае определялась в советской прессе как «реакционная великодержавно-шовинистическая раскольничья деятельность»3. Источником всех проблем объявлялась деятельность конкретно Мао Цзэдуна и его окружения. При освещении китайских событий постоянно использовались такие понятия, как «клика», «группа», «группировка Мао Цзэдуна». Подобным образом подчеркивалось существование в стране борьбы политических фракций, отсутствие согласованности и единства. Применяемые газетные клише были уже знакомы читателям. Они активно использовались в 1948–1949 гг., во время конфликта с Югославией, когда в печати шла жесткая критика «клики Тито–Ранковича» [ Костылев , 2011, с. 139–140]. Истоки же подобной риторики следует искать в пропагандистских кампаниях, организованных вокруг внутриполитических процессов в 1930-е гг. Необходимо отметить, что во второй половине 1960-х – 1970-х гг. подобная лексика широко употреблялась только при описании ситуации в Китае, что сигнализировало о степени советско-китайских разногласий.
Одним из наиболее выраженных объектов критики в советской прессе выступал культ личности Мао Цзэдуна, насаждавшийся в Китае в годы «культурной революции». Из газеты в газету переходили истории об абсурдных нововведениях, слепом поклонении личности «великого кормчего», повсеместном насаждении его трудов и изображений. Тема культа личности Мао Цзэдуна стала объектом острой сатиры в СССР. К примеру, были написаны серии куплетов для артистов цирка, в которых высмеивалось возвеличивание председателя КПК («Ходят слухи, что в Китае нынче кошек вешать стали. Эти кошки вместо “Мао” восклицают “Мяу-мяу”» и др.) [История советской…, 1997, с. 568]4.
Население в выступлениях также «клеймило позором» культ личности председателя КПК. На партийных и трудовых собраниях выступающие повторяли газетные фразы, иногда цитируя целые абзацы. При этом делались попытки объяснить причины быстрого внедрения культа личности Мао Цзэдуна в массы: «китайский народ очень предан и послушен в выполнении любых указаний и постановлений сверху и очень легко поддается на агитацию», «китайский народ не очень грамотный, поэтому его легко одурачить»5. Но в своих размышлениях советские граждане шли гораздо дальше официальной печати. В выступлениях постоянно присутствовало сравнение с существовавшим в СССР культом личности Сталина, а на происходящее в Китае проецировались советские события 1930-х – начала 1950-х гг.6 Говоря о том, к чему может привести политика «культурной революции», люди вспоминали те жертвы, которые понес советский народ в ходе сталинских репрессий. При публикации в прессе отчетов об этих собраниях такие высказывания не находили отражения, в частности, имя И.В. Сталина не упоминалось ни в одной из проанализированных статей.
В материалах газет регулярно подчеркивалась крайняя непопулярность идей китайского руководства среди населения страны. «Культурная революция» показывалась как фактически геноцид китайского народа. Советские журналисты всегда старались обратить внимание на то, что их критика направлена исключительно против политического руководства Китая и фанатичных маоистов, а не против населения в целом. Дружба между советским и китайским народом обязательно фиксировалась в публикациях.
На собраниях выступающие повторяли газетные фразы о поддержке советским народом рядовых китайских граждан, указывали на трудолюбие китайцев, вспоминали совместную работу в 1950-е гг. В отличие от газетных статей в таких выступлениях было больше экспрессии, образности: «Обидно, что под видом “культурной революции” растаптывают душу народа», «события в Китае, связанные с “пролетарской культурной революцией”, действия “хунвейбинов” напоминают фашизм»7 и т.д. На лекциях и собраниях часто задавали вопросы об общественных настроениях в Китае8. Людей удивлял тот факт, что китайский народ и «многомиллионная армия коммунистов Китая», согласно публикациям газет крайне негативно относящиеся к политике «культурной революции», не могут восстать против своего руководства9.
Много внимания в печати было уделено организациям цзаофаней и хунвейбинов, призванным внедрять идеи «культурной революции» в массы. Упоминавшиеся почти в каждой статье, они стали символом китайской «культурной революции» в целом.
Следует остановиться на термине «хунвейбины», который стал олицетворять оголтелый фанатизм, беспощадный террор, слепое поклонение лидеру. Благодаря газетам это слово вошло в лексикон советских граждан, использовавших его не только при описании китайских событий, но и в качестве образного выражения. К примеру, в 1968 г. К.И. Чуковский в своих дневниках по поводу реакции в стране на события в Чехословакии сделал запись: «1937-й. Отечественные хунвейбины распоясались» [ Чуковский , 1992, с. 183].
Отдельно в прессе рассматривалась культурная составляющая «культурной революции»: политика в сфере искусства, литературы, науки. Данная тема особенно активно развивалась в «Литературной газете». Материал о Китае, солидный по объему и сопровождавшийся иллюстрациями, присутствовал почти в каждом номере этого издания. Существовала специальная рубрика «Китай: “культурная революция”», в которой описывались подробности внедрения этой политики в жизнь10. В ней регулярно печатались статьи об агрессивных выпадах китайского руководства в сторону советской культуры. Тем не менее данная сторона внутриполитического курса Пекина находила слабый отклик у рабочих, колхозников, инженерно-технических работников . «Меня также возмущает так называемая "культурная революция" в Китае. Это не революция, средневековое варварское уничтожение достижений мировой культуры, это духовное и материальное обворовывание великой китайской нации»11, – подобные фразы на партийных собраниях заводов, фабрик, транспортных предприятий были скорее исключением. В то же время в среде творческой интеллигенции активно обсуждалась культурная политика Мао Цзэдуна. Одним из примеров выражения своего отношения к событиям в КНР является цикл стихотворений В.С. Высоцкого, в котором отражена борьба со старой культурной традицией Китая [Высоцкий, 2009, с. 150–152].
Журналисты встраивали материал о деятельности китайского руководства в общую картину внешнеполитической информации. Важнейшей темой международных рубрик во второй половине 1960-х гг. была война во Вьетнаме. В центральных и региональных газетах постоянно публиковались сводки военных действий, отклики мировой общественности, отчеты о митингах и собраниях советских граждан в поддержку Северного Вьетнама. Для усиления негативного образа Китая в газетах подчеркивалось, что он не только не содействует прекращению войны в Индокитае, но и создает преграды для оказания помощи Вьетнаму со стороны Советского Союза. Этот сюжет являлся одним из ключевых и в выступлениях советских граждан на собраниях. «Вместо того, чтобы помогать вьетнамскому народу в борьбе с США, руководство КПК занялось проведением "культурной революции" в своей стране. Этим самым они поощряют агрессию против вьетнамского народа»12. И вновь газетные фразы рядовые граждане облекали в живые, эмоционально окрашенные формы: «Очень жаль, что из-за того, что Мао Цзэдун «самый великий» и «самый идейный», вынуждены проливать кровь такие же, как мы, рабочие во Вьетнаме»13.
В 1968 г., когда с июня основной внешнеполитической темой газет стали события в Чехословакии, Китай снова выступил антагонистом СССР. Именно китайский премьер Чжоу Энь-лай на страницах советской печати первым обвинил Советский Союз в интервенции в ЧССР14. Однако основными противниками военной операции стран Варшавского Договора в Чехословакии среди социалистических стран в советской прессе представали Румыния и особенно Югославия. Это ранжирование нашло отражение и в сознании советских граждан. На собраниях и лекциях население задавало очень много вопросов о причинах разногласий Москвы с И.Броз Тито и Н. Чаушеску. В свою очередь позиция китайского руководства по чехословацкому вопросу вызывала у людей незначительный интерес15.
Вполне естественным было частое упоминание в прессе ярко выраженного антисоветизма китайского руководства. В публикациях сосредоточивалось внимание на связях Китая с внешнеполитическими противниками СССР: «Нынешние китайские руководители увидели в лице СССР своего врага номер один и стали искать союзников в так называемой "второй промежуточной зоне" среди монополистов ФРГ, Англии, Японии и т.д.»16. Появлялись сообщения о прямых советско-китайских конфликтах, к примеру, об агрессивных действиях китайцев по отношению к советским кораблям, перевозившим грузы для Вьетнама17 .
Именно эти сюжеты в большей степени волновали советских граждан и вызывали ответную реакцию – от простого интереса до открытого недовольства. Можно выделить несколько ключевых позиций в общей массе выступлений и вопросов, озвученных на собраниях и лекциях. Во-первых, подавляющее большинство населения высказывалось за более решительные меры в отношении «группы Мао». Подобные мнения выражались в формуле «Когда же кончится эта возня с Кита-ем?»18. Явственно проступали представления об СССР как возглавлявшем всю социалистическую систему и имевшем право настаивать на своем. Сильно было стремление порвать все связи с Китаем вплоть до расторжения дипломатических отношений. Во-вторых, людей волновал вопрос о причинах ухудшения отношений между Москвой и Пекином. Многие винили в этом бывшего главу государства Н.С. Хрущева, указывая, что в сталинское время с Китаем не было разногласий [Крамола, 2005, с. 154, 211; Общество и власть, 2008, с. 429]19. В-третьих, усваивая из средств массовой информации негативный образ Китая, советские граждане были убеждены, что эта страна таит в себе серьезную потенциальную опасность для СССР. Исследование Б.А. Грушина в 1968 г. показало, что 68% советских граждан определяли отношение Китая к СССР как враждебное [ Грушин , 2006, с. 802]. По этому критерию Китай занимал третье место после ФРГ и США. Из опрошенных 80% указывали на то, что Китай «создает обстановку военного напряжения» в мире, 18% определили Китай в качестве источника наибольшей угрозы человечеству [ Грушин , 2006, с. 802, 809].
Советское руководство, несмотря на коррективы внешнеполитической линии и проведение массовых пропагандистских кампаний, продолжало занимать в отношении Китая весьма осторожную позицию. В частности, это проявлялось в сформулированных еще в 1960 г. требованиях к советским пограничникам «при встречах с китайскими военнослужащими и гражданами КНР проявлять выдержку и такт… при возникновении на границе конфликтных ситуаций в основу наших [советских пограничников] действий должно быть положено стремление урегулировать инцидент мирным путем…» [Мельников, 2008, с. 112]. Несмотря на антисоветские выпады Китайской Народ- ной Республики, в прессе не поднимался вопрос о возможности войны между двумя социалистическими государствами. Однако среди населения мысли о возможности войны имели распространение. Анализ вопросов, заданных на трудовых и партийных собраниях в Свердловской области, показал, что прямо или косвенно о возможности советско-китайской войны в 1966 г. высказывалось чуть больше 8% присутствующих, в 1967 г. – 14%, в марте 1969 г. (период столкновений на острове Даманском) – более 20%20.
Распространению разных слухов о ситуации в Китае и намерениях китайского руководства способствовала недостаточная информированность советских граждан из официальных источников. К 1968 г. количество публикаций о Китае уменьшилось до 5% от общего числа материалов о социалистических странах. Официальная точка зрения КПСС на события в Китае фактически не отражалась в СМИ, очень часто в газетах перепечатывались статьи из других изданий, многие заметки представляли собой описание локального случая – все это не позволяло составить полную картину о ситуации в КНР. Фотографии, сопровождавшие публикации о Китае, также в подавляющем большинстве отражали частные эпизоды из китайской повседневности. В прессе помещались теоретические статьи с идеологической критикой китайского руководства. Однако читатели далеко не всегда знакомились с этими публикациями и понимали весь их смысл. На собраниях и лекциях частыми были вопросы о сущности «культурной революции» в целом, ее отличии от культурной политики В.И. Ленина в первые годы советской власти и т.д.21
Население было не удовлетворено количеством и качеством газетной информации о состоянии дел в Китае. Это выражалось в таких постоянных вопросах: «Почему в наших газетах открыто не пишут обо всех подробностях китайских событий?», «Будут ли помещаться в печати материалы о разногласиях с Китаем?», «Каковы сейчас взаимоотношения с Китаем? Почему этот вопрос освещается мало в газетах?»22. Одним из доказательств нехватки информации являются и материалы Б.А. Грушина: почти четверть опрошенных в 1968 г. респондентов не смогли определить уровень советско-китайских отношений [ Грушин , 2006, с. 802].
Во второй половине 1960-х гг. кроме официальных советские граждане имели и альтернативные источники информации. Во-первых, демобилизованные с советско-китайской границы военнослужащие говорили о частых провокациях, постоянных стычках с китайской стороной. Во-вторых, на территорию СССР на русском языке вещало китайское радио, по которому распространялась антисоветская информация. На собраниях, лекциях, политинформациях люди пытались проверить циркулирующие в обществе слухи. Очень часто вопросы о действиях китайских властей начинались со слов «правда ли», «верно ли говорят», «подтверждается ли разговор в народе» и 23 т.д.
Показательным примером слухов, связанных с действиями китайских властей, является активное обсуждение в народе намерений Китая сорвать празднование 50-летия советской власти в 1967 г. Н. Эйдельман в своих дневниках кратко описал общественные настроения в Москве перед ноябрьскими праздниками: «нарастание истерических страхов, боязнь выйти на улицу, слухи о “китайских листовках”» [ Эйдельман , 1999, с. 146]. Рядовые советские граждане интересовались: «Дадут ли китайцы праздновать 50-летие Октября?», «Испортят ли нам китайцы празднование», «Правильно ли, что Китай готовится сорвать праздник 50-летия Советской власти путем военного вмешательства?» и др.24
Таким образом, представления населения СССР о «культурной революции» в Китае в подавляющем большинстве базировались на материалах официальной советской печати. Газетная информация усваивалась настолько, что даже проникала в повседневную лексику. В материалах прессы присутствовало явное смещение смысловых акцентов, переключение с общего на частное. Основным методом показа событий в Китае стали заметки об отдельных случаях, происходивших в основном в провинции. Они показывали абсурдность «культурной революции», но не создавали общей картины политической и социально-экономической жизни в стране. Это порождало многочисленные вопросы о расстановке политических сил, об экономическом положении Китая, его военном потенциале и т.д. Указывая на враждебное отношение китайского руководства к Советскому Союзу, официальная печать не развивала эту тему, в подавляющем большинстве игнорировала поступающую из других источников информацию о постоянных вооруженных столкновениях на советско-китайской границе. Недостающие сведения активно компенсировали слухи, ключевым из которых был слух о подготовке Китая к войне с СССР. Лишь серьезный вооруженный конфликт на острове Даманском в марте 1969 г. с многочисленными жертвами стал достоянием широкой общественности и спровоцировал пропагандистскую кампанию в прессе. Способы показа событий в Китае и тематика статей, утвердившиеся в советской печати в первые годы «культурной революции», будут сохраняться длительный период, а столкновения на реке Уссури в 1969 г. внесли только временные коррективы в стиль журналисткой работы.
Главным обвинением руководства Китая было стремление расколоть социалистическую систему. В теоретических статьях «разоблачался ревизионизм группы Мао Цзэдуна». Антисоветская деятельность Пекина подавалась, как и внутренние события в КНР, в подавляющем большинстве случаев через описание частных случаев. Однако обвинений в открытой агрессии, в стремлении развязать новую войну во второй половине 1960-х гг. советская печать КНР не предъявляла. Чаще всего журналисты показывали деятельность китайского руководства, направленную против собственного народа, а не против СССР и других социалистических стран. На фоне ежедневных публикаций о неофашизме и реваншизме в Западной Германии, зверствах американских военных во Вьетнаме Китай не выглядел главным источником опасности для Советского Союза и тем более его «врагом номер один» 25. Показательным является почти полное отсутствие в «китайском материале» таких слов, как «фашизм», «нацизм», «гитлеризм», и производных от них, т.е. наиболее негативно окрашенного словаря в советском общественном сознании. Подобная лексика использовалась лишь в период наибольшего обострения советско-китайских отношений в марте 1969 г. Но и тогда она присутствовала в речах на митингах и в письмах рядовых советских граждан, а не в редакционных материалах26. Для сравнения: в кульминационный период антиюгославской пропаганды 1948–1949 гг. Й. Броз Тито и его соратников советские газеты постоянно называли «фашистами».
Общественные настроения отражали сформированную в СМИ тенденцию. Несмотря на существование опасений, связанных с возможностью войны с Китаем, и их публичное высказывание, а также стремление части населения разорвать отношения с КНР, большинство советских граждан желало нормализации отношений со своим восточным соседом. Советско-китайский переговорный процесс 1970-х гг. был встречен населением СССР очень позитивно. В противовес этому переговоры с ФРГ в 1970 г. и подписание советско-германского договора крайне скептически воспринимались населением.
Список литературы «Культурная революция» в Китае во второй половине 1960-х годов на страницах советской прессы и в восприятии населения
- Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них.. М.: Политиздат, 1990.
- Вайс Д. Паразиты, падаль, мусор. Образ врага в советской пропаганде//Полит. лингвистика. Екатеринбург, 2008. Вып. 1(24).
- Воробьев В. Об урегулировании пограничных вопросов с КНР//Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 3.
- Воспоминания К. Чуковского//Знамя. 1992. № 12.
- Воспоминания Н. Эйдельмана//Знамя. 1999. № 1.
- Высоцкий В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1: Песни. 1961-1970. М.: Время, 2009.
- Галенович Ю.М. Россия и Китай в XX в.: граница. Москва: Изограф, 2001.
- Галенович Ю.М. «Культурная революция» в КНР -что же это такое было?//Заметки китаеведа. М., 2002.
- Голубев А.В. «Если мир обрушится на нашу Республику..»: Советское общество и внешняя угроза в 1920-е -1940-е гг. М.: Кучково поле, 2008.
- Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: в 4 кн. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 2-я). М.: Прогресс-традиция, 2006.
- Гудков Л. Д. Негативная идентичность: Статьи 1997-2002 годов. М.,, 2004.
- История советской политической цензуры: док. и коммент. М., 1997.
- Каменская Е.В. «Они убивают советских людей, а мы молчим..»: Советско-китайский конфликт 1969 г. в массовом сознании населения (по материалам Свердловской области)//Геополит. реалии XX в.: к столетию начала Первой мировой войны: матер. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2014.
- Костылев Ю.С. Языковой портрет Иосипа Броз Тито в советской печати//Полит. лингвистика. 2011. № 1.
- Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе 1953-1982 гг.: Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. М., 2005.
- Кулик Б.Т. Советско-китайский конфликт в контексте мировой политики//Сов. внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985): Новое прочтение/отв. ред. Л.Н. Нежинский. М., 1995.
- Ли Даньхуэй. Некоторые вопросы китайско-советских отношений в 1960-е гг.//Проблемы Дальнего Востока. 2005. № 1.
- Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом: Образ Китая в России в XVII-XXI вв. М., 2007.
- Мельников В. Н. Деятельность органов государственной власти СССР по обеспечению национальной безопасности страны в пограничной сфере Дальнего Востока (1949-1969 гг.)//Власть и управление на Востоке России. 2008. № 1.
- Мельников В.Н. Пограничная политика СССР на советско-китайской границе: 1949-1969 гг.: дис.. канд. ист. наук. Хабаровск, 2009.
- Николаева Н.И. Формирование мифологизированного образа Соединенных Штатов Америки в советском обществе в первые годы «холодной войны» (1945-1953 гг.): дис.. канд. ист. наук. Саратов, 2001.
- Общество и власть. Российская провинция, 1917-1985. Пермь, 2008. Т. 2.
- Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX в.: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006.
- Сенявский А.С., Сенявская Е.С. Историческая имэджинология и проблема формирования «образа врага» (на материалах российской истории XX в.)//Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: История. 2006. № 2 (6).
- Усов В.Н. КНР: От «большого скачка» к «культурной революции» (1960-1966 гг.)//Информ. бюл. Ин-та Дальнего Востока РАН. М., 1998. Ч. 1, № 4.
- Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг. М., 1999. URL: http://psyfactor.org/lib/fateev0.htm (дата обращения: 25.03.2010).
- Фролов А.В. Развитие советско-китайских приграничных отношений на Дальнем Востоке СССР (1949-1969 гг.): дис.. канд. ист. наук. Хабаровск, 2007.
- Чернявский А.В. Советско-китайский пограничный конфликт 1969 г. в общественном мнении граждан СССР//Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: История и политические науки. 2012. № 4.
- Широкорад А.Б. Россия и Китай: Конфликты и сотрудничество М.: Вече, 2004.