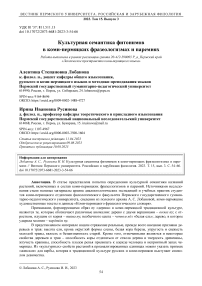Культурная семантика фитонимов в коми-пермяцких фразеологизмах и паремиях
Автор: Лобанова А.С., Русинова И.И.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена попытка определения культурной семантики названий растений, включенных в состав коми-пермяцких фразеологизмов и паремий. Источниками исследования стали полевые материалы архива диалектологических экспедиций и учебных практик студентов коми-пермяцкого отделения филологического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, сведения из полевого архива А. С. Лобановой, коми-пермяцкие художественные тексты и данные «Коми-пермяцкого фразеологического словаря». Признаками, формирующими образ пу «дерева» в коми-пермяцкой традиционной культуре, являются те, которые обозначают различные аномалии: дерево с двумя вершинами - вожа пу; с отростком, идущим от корня - пияна пу; необычного цвета - чочком кöз «белая ель»; дерево, в которое ударила молния - чарöтöм пу. В представленном материале нашли отражение реальные, прежде всего внешние признаки деревьев и трав: высота ели, крона округлой формы сосны, белая кора березы, упругость и свежесть молодой травы, вялость и безжизненность старой. Кроме того, отмеченными являются и некоторые свойства деревьев и трав - способность коры отделяться от ствола дерева и твердость древесины, жгучесть крапивы, способность плодов репья прилипать к одежде человека и неприятный запах чемерицы. Из «культурных» свойств растений в проанализированных единицах можно указать признак «женское» для вербы, которая в традиционной культуре русских и коми-пермяков выступает символом девичества. Проанализированные материалы показывают, что главным направлением развития образной семантики дендронимов и фитонимов в коми-пермяцких паремиях и фразеологизмах является вектор дерево → человек, растение → человек, то есть названия деревьев, кустарников, дикорастущих и культурных травянистых растений обозначают человека, имеющего различные характеристики (как социальные, так и физические). Реже фитонимы в составе фразеологизмов и паремий отражают различные действия и состояния человека.
Коми-пермяцкий язык, фразеологизм, паремия, фитоним, дендроним, метафорический перенос, культурная семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/147241908
IDR: 147241908 | УДК: 81’37: | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-54-66
Текст научной статьи Культурная семантика фитонимов в коми-пермяцких фразеологизмах и паремиях
Номинативные единицы коми-пермяцкого языка, обладающие культурной семантикой, в настоящее время всё чаще становятся объектом всестороннего изучения. Ряд наших статей, тематика которых связана с особенностями функционирования в речи коми-пермяков отдельных этнонимов [Лобанова 2014: 85–91], наименований одежды и обуви [Лобанова 2015: 218–223], орнитонимов [Лобанова 2016: 22–30], фитонимов [Лобанова 2017: 240–248; Лобанова 2018: 124– 127] и др., демонстрирует наличие интересных этнолингвистических особенностей, которые позволяют выявить взаимосвязь языка и культуры, показать стереотипы национального сознания, особенности менталитета. На наш взгляд, это довольно интересный вид анализа, поскольку в нем отражаются мировидение этноса, его ценностные характеристики, предпочтения или различного рода запреты и предписания.
В результате работы диалектологических экспедиций, которые активно проводятся в Коми-Пермяцком округе в течение последних нескольких лет, был пополнен новыми единицами фито-нимический корпус коми-пермяцкого языка. Опыт такой работы показывает, что фиксация сведений о названиях объектов растительного мира коми-пермяков должна быть продолжена.
Следует отметить, что названия коми-пермяцких растений всё чаще становятся предметом научных изысканий.
Одной из важных работ являются «Материалы для словаря коми-пермяцких названий растений» (2021). Большой авторский коллектив, используя различные источники – памятник письменности XIX в. (переводной словарь Н. Рогова), современные коми-пермяцкие словари, художественные тексты, научные статьи, полевые материалы, – составил актуальный и очень востребованный словарь. Фитонимический материал в словаре представлен с сохранением диалектной формы лексем, а в Предисловии к работе освещены вопросы сбора и особенности изучения данной тематической группы слов коми-пермяцкого языка [Материалы для словаря 2021].
Существует несколько исследований, посвященных фитонимической лексике. Предыдущие работы авторов статьи, выполненные на матери- але названий объектов растительного мира, демонстрировали коннотативные значения отдельных коми-пермяцких фитонимов [Лобанова 2017: 240–248; Лобанова 2018: 124–127], раскрывали принципы их лексикографического представления [Русинова, Федосеева 2019: 134– 142], описывали синонимические отношения в данной группе лексики [Федосеева, Русинова 2021: 226–232], демонстрировали некоторые мотивационные модели фитонимических единиц [Русинова, Лобанова, Федосеева 2022: 578–591]. Работы других ученых посвящены этимологии некоторых коми-пермяцких фитонимов [Гайда-машко 2017: 298–331; 2019: 19–26]; названиям фитонимов в финно-пермских языках [Бродский 2015: 73–92; 2016: 56; 2021: 224–232; 2022: 407– 417 и др.].
В данной работе объектом внимания стала образная фитонимия коми-пермяцкого языка. Источниками настоящего исследования послужили полевые материалы, собранные А. С. Лобановой в 2022 г. (АПМЛАС), данные архива диалектологических экспедиций и учебных практик студентов коми-пермяцкого отделения филологического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (АПМ КПО). Важным источником являются также коми-пермяцкие художественные тексты, основанные на материале «живой» коми-пермяцкой речи, и данные «Коми-пермяцкого фразеологического словаря» (далее – КПФС).
Цель настоящего исследования – выявление культурной семантики коми-пермяцких фитони-мов, входящих в состав фразеологизмов и паремий. «В связи с относительной молодостью па-ремиологии термин паремия используется в науке неоднозначно – как родовой по отношению к ряду разновидностей устойчивых высказываний. Под паремией понимают либо только пословицы и поговорки (В. П. Жуков, Л. Б. Савенкова. З. К. Тарланов), либо, помимо них, также присловья – выражения, которые <…> используются, прежде всего, для украшения речи, для создания комического эффекта (В. М. Мо-киенко, Т. Г. Никитина, Е. И. Селиверстова). Расширительно понимая паремику, ученые относят к ней также приметы, загадки, афоризмы (Г. Л. Пермяков, Е. Е. Жигарина)» [Подюков,
Свалова 2019: 15]. Под паремией в нашей работе понимаются пословицы и поговорки.
Нельзя утверждать, что место фитонимов в коми-пермяцких устойчивых выражениях очень велико. По данным КПФС, во фразеологических единицах гораздо больше названий животных (диких, сельскохозяйственных и домашних): ба-дьöг «куропатка», баля, ыж «овца», вöв «лошадь», гаг «червь», гут «муха», дзель «ягненок», дзöдзыв «ящерица», ёдi «лещ», ёкыш «окунь», жерег «жерех», кань «кошка», катша «сорока», кöин «волк», кöк «кукушка», кöр «олень», кöч «заяц», курича, курöг, кутю «курица», кыр, сизь «дятел», меж «баран», мöс «корова», ном «комар», ош «медведь», öшка «бык», петук «петух», пичик «трясогузка», пон «собака», пороз, «бык», порсь «свинья», рака «ворона», руч «лиса», сьöла «рябчик», сюзь, тупка «сова, филин», тар «тетерев», тури «журавль», ур «белка», чавкан «галка», юсь «лебедь», – чем названий растений. Кроме того, одни и те же зоонимы могут использоваться в целом ряде фразеологических единиц.
Тем не менее собранный материал свидетельствует о том, что названия объектов растительного мира всё же являются довольно востребованным компонентом коми-пермяцких фразеологизмов и паремий. Правда, по сравнению с русским языком, их количество гораздо меньше. Например, по данным КПФС, это только 17 лексем: пу «дерево», кöз «ель», ньыв «пихта», по-жум «сосна», верба , нитш «мох», турун «трава», шишыбар «репейник», пикан «сныть», чес-нöг «чеснок», лук , калиг «брюква», боб , капуста , кушман «редька», сёртни «репа», рудзöг «рожь», пыш «конопля».
Признаки, формирующие образ дерева в славянской и в коми-пермяцкой традиционной культуре
Еще в 1990-е гг. Т. А. Агапкина, занимающаяся изучением символики деревьев у славян, выработала схему описания и исследования дерева как концепта традиционной культуры в целом и отдельных его пород как вариантов этого концепта в частности. Такая схема описания дендросимвола состоит из ряда разделов: «Мифы и легенды о происхождении», «Языковой образ», «Общие характеристики и признаки», «Мифологема мирового древа; дерево как медиатор», «Дерево как культовый объект; священные рощи», «Дерево и человек (типы взаимоотношений, категории жизнедеятельности и др.)», «Дерево в отношении к сфере народной демонологии», «Дерево и тот свет, сфера хтонического», «Дерево в обрядах и магии», «Дерево в народной медицине и ветеринарии», «Запреты, свя- занные с деревьями», «Фольклорный образ» и нек. др. [Агапкина 2019: 17]. Эта схема была применена для описания одного из наиболее выразительных дендросимволов восточнославянской традиции – осины [Агапкина 1996]. Впоследствии на основе этой схемы были написаны статьи о деревьях и кустарниках для этнолингвистического словаря «Славянские древности» (1995–2012), а также монография «Деревья в славянской народной традиции» [Агапкина 2019].
Однако то общее, что объединяет разные породы в цельный этнокультурный образ дерева как родового понятия, по мнению автора, явно превалирует над их особенностями: любое дерево репрезентирует в верованиях, фольклоре и обрядах прежде всего родовой концепт «дерево» и лишь во вторую очередь – дерево определенной породы. В результате исследователь пришел к выводу, что этнокультурный образ каждого дерева – это всего лишь особая комбинация элементов родового концепта «дерево». Выявление особенностей их комбинаторики и составляет суть предлагаемого автором подхода к этнодендрологи-ческому материалу [там же: 17–18].
Автор считает, что у истоков символизации лежит обращение к форме деревьев, их фактуре, цвету и другим характеристикам и свойствам, т. е. ко всему тому, что является объективным и потому воздействует на восприятие дерева человеком и его органами чувств [там же: 23]. При этом одни особенности дерева (или иного природного объекта) оказываются востребованы в ритуале, мифологии или фольклоре, а другие – нет, поскольку «далеко не все свойства и признаки в одинаковой мере становятся объектами оценки и семиотического осмысления в культурных текстах. Как и во многих других случаях, здесь проявляет себя ярко выраженная избирательность языка культуры» [Толстая 2002: 7].
Исследователь выделяет реальные свойства дерева, которые получают культурную интерпретацию: приносящее плоды – неплодоносящее/ неплодовое; крупное (большое, высокое), листо-падное/вечнозеленое; вертикальное; крепкое, твердое/мягкое; цвет дерева; свежее/сухое; аномальное дерево (имеющее ветки с густыми побегами, опускающиеся до земли, ветки, растущие строго вертикально; искривленные, неправильно растущие деревья, со стволами неправильной формы); растущее среди других деревьев / одиноко стоящее; растущее в неосвоенном пространстве / растущее вблизи жилья; культивиру-емое/дикорастущее/быстрорастущее; признаки, характеризующие дерево по месту, где оно растет [Агапкина 2019: 23–33].
Т. А. Агапкина обращает внимание также на « культурные » свойства деревьев, то есть те, которые, не будучи напрямую обусловлены реальными свойствами деревьев, проецируются на деревья извне: нечистое (демоническое)/чистое; благословенное/про́клятое; мужское/женское; счастливое/несчастливое; народно-этимологические толкования названий деревьев [Агапкина 2019: 34–37].
На наш взгляд, при анализе коми-пермяцкого материала можно опереться на разработанную Т. А. Агапкиной методику и рассмотреть те объективные свойства деревьев, которые лежат в основе их символизации и культурной семантики.
Коми-пермяки прежде всего обращают внимание на такие внешние признаки пу «дерева», которые являются нетипичными, нестандартными – аномальными:
– дерево с двумя вершинами;
– дерево с отростком, идущим от корня;
– дерево необычного цвета;
– дерево, в которое ударила молния;
– дерево, склонившееся до земли.
Так, вожа пу «раздвоенное дерево; дерево с ответвлением» считается способным принести беду. Вожа пуэз вот эмöсь. Бур, басöк вöрас. Сэтшöм стройнöй, вермас не öтiк кер петны. А несчастнöй ! «Раздвоенные деревья вот есть. Хорошее, красивое в лесу. Такое стройное, может не одно бревно получиться. А несчастное»! (Верх-Иньва Куд.) (АПМЛАС). Такие деревья нельзя брать для строительства нового дома. Их стараются обычно не распиливать даже на дрова. Считается, что раздвоенное дерево служит качелями для лешего . Вöрсис кöзяиныс вожа пуввас дю-ттясьö, оз ков сэтшöм пусö вöрöтны . «Лесной хозяин на раздвоенном дереве качается, не надо такое дерево трогать» (Верх-Иньва Куд.) (там же).
Несчастливым считается дерево с отростком – пияна пу «дерево с ребенком (детенышем)». Шуöны, пияна пуэсö оз кол керны. Бокас пиян, сiйö оз кол. «Говорят, деревья с отростками нельзя делать (в зн. «рубить»). Сбоку отросток, его не надо (рубить)» (Пуксиб Кос.) (АПМ КПО).
Добавим, что несчастливым деревом считается и так называемая ель-альбинос – чочком кöз (пу) «белая ель (дерево)». Шуöны, кытшöмкö чочком пу эм, чочком кöз, сiйöн пö эд кöзяиныс эз ов. «Говорят, какое-то белое дерево есть, белая ель, от этого ведь хозяин не жил (в доме) (если такая ель попадает в сруб дома)» (Верх-Иньва Куд.) (АПМЛАС). Речь в данном случае идет о свойстве не реального, а мифического дерева: Учöтсянь кывви чочком кöз йывись. Вот Кудым-карас пондан мунны, Верк-Иньвасö чуваан, Ва-сёвчиыс сайын тай кузь выын керöс эм, сэтöн пö чочком кöзыс быдмö. Но ме мымда видзöтви, мыйкö некытшöм чочком кöз эг жö адззыв. А öнi туйсö мöдöрöт керисö, оз тыдав сiя местаыс. «С детства слышала о белой ели. Вот в Кудымкар поедешь, проедешь Верх-Иньву, так после Васёво есть пологая (долгая, длинная) высокая гора, вот там, говорят, белая ель растёт. Но сколько я ни высматривала, что-то никакой белой ели не замечала. А сейчас дорога по другому месту проложена, не видно того места» (Селево Куд.) (АПМЛАС).
В знахарстве используется чарöтöм пу «задетое молнией дерево», его еще принято называть «громовое дерево». Чарöтöм пу, вот сiйöн жельнöгнас чертитас, лыддяс. Чистöй паськöм пасьталас, Ыджыт лунöн лыддяс, лыддяс или би вылö, или вот кыт колö мыйöн, или турун вылö. Лыддяс и вот и лечитлiс сiйöн. «Задетое молнией дерево, вот этой лучиной чертит, наговорит. Чистую одежду наденет, в Большой день начитает, начитает, или на огонь, или на траву. Начитает и вот и лечил им». (Жемчужный Гайн.). Рыбаки знают еще одно предостережение: Чарöтöм пулiсь стоит чапкыны чаг ваö, и некытшöм чери оз шед. «У задетого молнией дерева стоит бросить в воду щепку, и никакую рыбу не поймают» (Жемчужный Гайн.) (там же).
В народе живет примета: пуэс кöр öддьöн пöліньтчöны, сэк уна лоасö покойниккез. «Когда деревья сильно наклоняются – будет много покойников» (АПМ КПО).
Культурная семантика названий деревьев в коми-пермяцких паремиях и фразеологизмах
Общее наименование пу «дерево»
Остановимся на некоторых семантических аспектах наименования пу «дерево». Оно довольно часто употребляется в пословицах и поговорках, устойчивых сравнениях, то есть родовое слово пу «дерево» занимает существенное место в традиционной коми-пермяцкой фразеологии и паремиологии.
Исследователи лексики русских говоров отмечают наличие диалектных метафор, характеризующих внешность, характер, способности и поведение человека, демонстрируют наличие продуктивных метафорических моделей, которые реализуются в различных диалектах, например, метафорических переносов ‘дерево’ → ‘человек’, ‘часть дерева’ → ‘человек’, ‘растение → человек’, ‘ягода → человек’ [Колосько 2010: 69, 70].
Собранные материалы показывают, что главным направлением развития образной семантики дендронимов в коми-пермяцких паремиях и фразеологизмах тоже является вектор дерево → человек, то есть названия деревьев и кустарников в устойчивых выражениях обозначают человека, имеющего различные характеристики (как социальные, так и физические).
Проанализируем коми-пермяцкие фразеологизмы с компонентом пу «дерево». Определения, относящиеся к этому компоненту, как правило, указывают на ту или иную характеристику человека.
Одинокого человека коми-пермяки назовут öтка пу «одинокое дерево»: Öтка пуöн и овис Бöрис Писаыс, жöник сайö эз ветвы. «Одиноким деревом и прожила Анфиса (дочь Бориса), замуж не выходила» (Москвино Куд.) [АПМЛАС]; Öтка пу . «Одинокое дерево» (КПФС: 143).
О долго болеющем или неизлечимо больном человеке в северных районах Коми-Пермяцкого округа скажут сiсьмöм пуöн дзуртö (досл. «прогнившим деревом скрипит»): Сiйö батя нем оз босьт, дзуртö и дзуртö сiсьмöм пуöн. «Его ничего не берет, скрипит и скрипит прогнившим деревом» (там же: 176).
Можно привести и другие единицы, в которых обнаруживается параллель человек ~ дерево . Например, в сборнике фольклорных текстов В. Климова «Кытчö тiйö мунатö» (1991) приведены некоторые пословицы и поговорки, содержащие дендронимы, используемые для обозначения человека. Определение, относящееся к слову пу «дерево», служит указанием на признак, качество, состояние человека: Дзуртан пуыс дыржык олö . «Скрипучее дерево дольше живет» (Климов 1991: 186); Октöм пусö он ни ловзьöт . «Срубленное дерево уже не оживишь» (там же: 190).
А. С. Лобановой была зафиксирована поговорка Кыдз öткодь пуэс оз быдмö, сiдз öткодь челядьыс оз овлö «Как не бывает одинаковых деревьев (досл. «как не растут одинаковые деревья»), так одинаковых детей не бывает» (АПМЛАС). Не весь баитöны, кыдз öткодь пуэс оз оввö, сiдз и öткодь челядь оз оввы «Не зря говорят, как не бывает одинаковых деревьев, так одинаковых детей не бывает» (Селево Куд.) [АПМЛАС]. В приведенных материалах мы тоже наблюдаем изоморфизм дерева и человека. Дендроним в данном случае употреблен по множественном числе пуэс, что естественно для обозначения совокупностей детей в говорах. И в коми-пермяцких, и в русских диалектах часто для их номинации используются либо собирательные существительные, либо лексемы во множественном числе: но́мыр ‘множество детей’ (КПРС: 277); га́врик ‘о ребенке’. Дети они дети и есть. Вон их гавриков цела орда . Кем. (СРНГ 6: 85); гнус, кашкалда, малоросье, номор, овод, норос, плани́да, руно́, че́лядь [Зверева 2011: 55].
Интересный факт отмечен в нижневычегодском и присыктывкарском диалектах коми-зырянского языка, где функционирует термин родства гöтырпу «невеста» (досл. «жена дерево») (КСК 2012: 362), то есть член семьи уподобляется дереву. В данном случае представления о дереве – его силе, долголетии, значимости в крестьянском хозяйстве – соотносятся с качествами будущей хозяйки дома и будущей матери.
Наименования конкретных деревьев и кустарников
Деревья и кустарники в устойчивых выражениях представлены несколькими единицами. Обычно во фразеологизмах и паремиях используются названия хвойных деревьев (чаще – ели, реже – сосны и пихты), изредка встречаются наименования лиственных деревьев и кустарников (вербы, ивы, ольхи). Так же, как и в описанном выше материале, дендронимы используются для обозначения людей, обладающих разными признаками, чаще внешними. В большинстве случаев можно обнаружить изоморфизм дерева и человека: ствол дерева обозначает тело, корпус человека, крона – его голову.
Сравнение кöз сувда (досл. «высотой с ель») используется для обозначения мужчины (молодого человека) высокого роста: Зонныт кöз сувда воöм . «Ваш сын стал ростом с ель» (Верх-Иньва Куд.) (АПМЛАС). Зонканым кöз сувда «наш мальчик ростом с ель» (в зн. «наш сын стал уже высоким») (Верх-Иньва Куд.) (АПМ КПО).
О худом человеке (обычно о мужчине) могут сказать увтöм кöз «ель без сучьев» (КПФС: 197). Худобу обозначают и с помощью фразеологизма косьмöм бадь «высохшая ива», который адресован женщине (АПМ КПО). В романе В. В. Климова «Гублян» зафиксировано очень близкое выражение косьмöм ньöр «высохший прут (хлыст)»: Ворота дорас öксьöмась дасмöд морт, унажыксö инькаэз, и кывзöны винерик, дзик косьмöм ньöр, нывкаöс . «Около ворот собралось десятка два людей, больше женщин, и слушают худенькую, как высохший хлыст, девушку» (Климов 2017: 279).
Мужчину с пышными волосами могут назвать пожум юр «голова как сосна») (АПМ КПО). «Коми-пермяцкий фразеологический словарь» выражение пож (пожум) юр «голова как сито (сосна)» фиксирует в значении ‘о непричесанном человеке’ (КПФС 2010: 153).
Сочетанием верба бöбöтны «вербу обмануть» шутливо называют ситуацию, когда хотят соблазнить девушку (АПМ КПО). В данном выражении дендроним верба является символическим заместителем молодой девушки, невесты. Считается, что верба в народной культуре, в фольклоре символизирует быстрый рост, здоровье, жизненную силу невесты (Агапкина 2014: 285).
О белых, здоровых зубах могут сказать Пин-нес сылöн кыдз березник. «Его (её) зубы словно березняк» (АПМ КПО). Томнам пиннезö тожо кыдз березник вöвисö, а öнi сёйны немöн («По молодости мои зубы тоже как березняк были, а сейчас есть нечем») (Юсьв.) (АПМ КПО).
Не только в коми-пермяцких фразеологизмах, но и в поcловицах компоненты-дендронимы указывают на человека: Кöр ниныс кульсьö, сэк и куль досл. «Когда ива сдирается, тогда и сдирай». Нинпусö кыкись оз кульö досл. «Иву дважды не сдирают» (Климов 1991: 200). Небыт кылöн и ловпу кöстан . «Мягким (ласковым) словом и ольху согнёшь» (там же: 189).
Реже паремии и фразеологизмы с участием дендронимов обозначают какое-либо действие человека. Например, значение ‘заниматься чьим-либо воспитанием, отругать’ могут передать с помощью выражения увтöм кöз вылö лэбтыны «поднять на ель без сучьев» (КПФС: 196).
Как видно из анализа, в представленном материале нашли отражение реальные, прежде всего внешние признаки конкретных деревьев: высота для ели, крона округлой формы для сосны, белая кора для березы. Кроме того, отмеченными являются и некоторые свойства деревьев, востребованные в хозяйственной деятельности человека, – способность коры отделяться от ствола и твердость древесины.
Из «культурных» свойств дерева в проанализированных единицах можно отметить признак «женское» для вербы, которая в традиционной культуре русских и коми-пермяков выступает символом девичества.
Таким образом, «совокупность деревьев и связанных с ними поверий и обрядов задает универсальный символический язык, посредством которого описываются разнообразные физические, эмоциональные, ментальные и иные состояния человека, своего рода культурный код, с помощью которого моделируется судьба человека и стадии его жизненного пути. Эта антропоориентированность, соотнесенность жизненных сценариев дерева и человека составляют доминанту народной дендрологии в ее культурном измерении» [Агапкина 2019: 567]. Данные слова исследователя славянской традиционной культуры справедливы и для коми-пермяцких фольклорных текстов, устойчивых оборотов и выражений, для коми-пермяцкой традиционной культуры в целом.
Культурная семантика названий травянистых растений в коми-пермяцких паремиях и фразеологизмах
Наименования дикорастущих травянистых растений
Интересными с точки зрения семантики, на наш взгляд, являются устойчивые сочетания, вы- ражения с компонентом турун «трава». Заметим, что значительная часть коми-пермяцких фито-нимов содержит данное родовое слово: сизьюр-турун «клевер» (где сизь «дятел», юр «голова», турун «трава»), ситурун «мятлик» (где си «волос», турун «трава»), чаньподтурун «копытень» (где чань «жеребенок», под «нижняя часть», ту-рун «трава») и т. д.
Противопоставленные в формальном плане устойчивые выражения турун эн быдмы «трава не расти» и турун (ёгтурун) быдмы «трава (сорная трава) расти» в целом близки по значению. Так, довольно употребительным в речи коми-пермяков является выражение кöть турун эн быдмы «хоть трава не расти», когда говорится о равнодушном, безразличном отношении к кому-, чему-либо: Петiс, мунiс керкуись, а челядьсö ко-лис, кöть турун эн быдмы досл. «Вышла, ушла из дома, а детей оставила, хоть трава не расти» (Верх-Иньва, Куд.) (АПМЛАС). Поговорка является фразеологической калькой русского разговорного выражения хоть трава не расти, обозначающего полное безразличие к тому, что будет, каков будет результат (Ожегов, Шведова 2008: 806). Подобное значение реализуется и выражением турун быдмы «трава расти». Сiдз и овöны, кыт пöт, кыт тшыг, а керкуаныс – ёг-турун быдмы . «Так живут, то сыты, то голодны, а в их доме – сорная трава расти» (АПМ КПО).
Близкое по составу компонентов выражение турун эз сулав (оз сулав) «трава не стояла (не стоит)» имеет уже иное значение. Вот как с его помощью коми-пермяцкий писатель С. Федосеев характеризует своего героя: Зонкаыс вöлi аскодя-асныра, кыдз шуöны, кыт мунас, бöрсяняс пу-туруныс оз сулав досл. «Молодой человек был своенравным, где пройдет (досл. “где побывает”), после него дерево-трава не стоит (в зн. “после него все уничтожено, разбито”)» (Федосеев 1994: 178).
Основная мысль фразеологизма заключается в следующем: человек совершает безрассудные поступки, которые потом никак не исправить. Растительный образ, который использует автор, символизирует силу, живучесть, способность восстановиться в определенных физических пределах.
С помощью устойчивого выражения кыдз ту-рун быдмыны (или грамматического синонима турун моз быдмыны) «как трава расти» реализуется широкое значение, связанное с отсутствием воспитания детей в семье. Каганыс кыдз турун быдмö, некинлö дело абу. «Ребенок как трава растет (в зн. ‘никто о нем не заботится’), никому дела нет» (Пелым Коч.) (АПМ КПО). Быдтасо-ойöсь челядьыс, да турун моз жö только быдмöны «Приемные дети, да как трава же толь- ко растут» (в зн. «без ласки, без заботы растут дети») (Верх-Иньва Куд.) (АПМЛАС). На наш взгляд, это калька русского разговорного выражения как трава растет ‘о ребенке: без всякого присмотра’ (Ожегов, Шведова 2008: 806).
В текстах С. Федосеева встретилось подобное выражение быдмыны пу-турун моз «расти как дерево-трава», но с иной семантической нагрузкой: И пондiсö быдмыны Андрейыс да Мишаыс, да эд не пу-турун моз, а морттэз моз – öддьöн жагöн . «И стали расти Андрей да Миша, да ведь не как дерево-трава – очень медленно» (Федосеев 1994: 6). Писатель противопоставляет быстрому росту травы долгий путь воспитания человека. Данное выражение, возможно, является авторским, поскольку в этом значении оно нигде больше не зафиксировано, хотя контекст является понятным.
Этому же автору принадлежит следующая фраза с уже известным нам выражением: Том инькаыс, кыдз том туруныс жö, быдмыштöм, ёнмыштöм, моросыс чердыштöм, рожабаннэзас орсö югыт вир . «Молодая женщина, как и молодая трава, подросла, поправилась, грудь поднялась, на щеках заиграла молодая кровь» (там же: 13). Молодая привлекательная женщина ассоциируется с молодой активно растущей травой.
А вот противоположный образ женщины реализуется уже с помощью иного выражения – кыдз турун косьмыны или турун моз косьмыны «как трава высохла»: Инька кыдз арланьын ту-рун за косьмис . «Женщина, как в осеннюю пору стебель травы, высохла» (там же: 26). Увядшая, старая женщина ассоциируются с высохшей травой.
Одиночество человека обозначается устойчивой фразой турун тылöпöн кольччыны «травинкой остаться»: Мамö кольччис гортын öт-нас, кыдз турун тывöп . «Мама осталась дома одна, как травинка» (Селево Куд.). [АПМЛАС]. … герьялö мамыс да война вылö кольлалö ме-дучöт зонсö ни. Кольлалiс зонсö и кольччис гортö, кыдз ыб шöрын турун тылöп, кöдö тöлыс нёкралö, морозыс кынтö … «…причитает мать да на войну уже последнего сына провожает. Проводила сына и осталась дома, словно травинка в поле, которую ветер гнёт, мороз остужает…» (Федосеев 1994: 145).
Семантика бесполезности, ненужности травы проявляется в следующих единицах. Выражение вурун на турун вежны «шерсть на траву менять» (КПФС: 45) семантически идентично русскому шило на мыло менять ‘делать что-либо бесполезное, ненужное’. С одной стороны, появление такого фразеологизма обусловлено игрой звуков. С другой стороны, здесь можно говорить о семантической оппозиции шерсти как символа изобилия и богатства и травы, которая не обладает такими качествами.
Довольно употребительно в коми-пермяцком языке выражение поннэзлö турун ытшкыны «собакам траву косить». Так характеризуют мужчину, изменяющего своей жене: Трöпим Санко вексö поннэзвö турун ытшкис . «Александр (сын Трофима) постоянно жене изменял» (Селево Куд.) (АПМЛАС). Выражение зафиксировано и в Коми-пермяцком фразеологическом словаре: Пон-нэзлö турун ытшкö «собакам траву косить». ‘О муже, ушедшем из дому, из семьи’ (КПФС: 154). Не одобряемое социумом поведение обозначено с помощью выражения, в котором сено (трава) предназначено для собак, не будучи их кормом. Данное несоответствие образно характеризует отклоняющееся от нормы поведение мужчины.
Таким образом, реальные качества травы (сила, выносливость, «пробиваемость»), ее внешние признаки (весенняя, летняя свежесть, осенняя сухость и вялость) и необходимость в хозяйстве (в качестве сена) легли в основу устойчивых выражений с данным компонентом.
Фразеологизмов, устойчивых сравнений с наименованиями конкретных травянистых растений нами зафиксировано не так много, зато они выделяются довольно интересными смысловыми особенностями. Часть из них до сих пор не зафиксирована в письменных источниках, а некоторые функционируют пока только в коми-пермяцких художественных текстах.
Так же, как и в проанализированном выше материале, в данной группе устойчивых языковых единиц чаще всего заметна параллель растение ~ человек . Эпитет, относящийся к названию конкретного травянистого растения, выполняет идентифицирующую функцию, помогая обозначить то или иное качество человека.
Обратимся к следующим образным выражениям, в составе которых фигурируют наименования травянистых растений. К числу клишированных можно отнести выражение лякасьны кыдз шышыбар «прилипнуть как шишибар (репейник)» – ‘о надоедливом, назойливом человеке’ (АПМЛАС). … лякасьöмат пö Тасимыт бердö, кыдз шышыбар . «…прилипла, говорят, к Тасиму, как шишибар» (Климов 2017: 302). Похожее выражение фиксирует «Коми-пермяцкий фразеологический словарь»: шышыбарöн ляксьö «репейником прилипает» (КПФС: 63). В данном случае, полагаем, можно говорить о том, что представленная единица является калькой русского выражения пристал как репей , которое употребляется для обозначения человека, ведущего себя навязчиво, надоедливо (Ожегов, Шведова 2008: 676).
Крапива – растение, основной признак которого в славянских языках отразился в названиях, мотивированных значением ‘жечь’, ‘жалить’, ‘колоть’ [Колосова 1999: 643]. Это же объективное свойство – неприятные ощущения после ожогов крапивой жгучей ( лёк петшöр (досл. «свирепая крапива»)) – породило семантический перенос крапива → злой человек в коми-пермяцком языке: лёк петшöрыскöт эн кутчись, сотас «со злым человеком не связывайся, обожжёт» (Селево Куд.) (АПМЛАС). Моньным лёк петшöр кодь, зонам пова и пырны «невестка наша как жгучая крапива, к сыну боюсь и заходить» (Селево Куд.) (там же).
Особенности роста человека реализуются с помощью устойчивых сравнений пистик кодь морток (мужичок) «человек (мужчина) как полевой хвощ» (АПМ КПО) и быдмыны кыдз воль-гумпикан «вырасти как дудник» (там же). Первое выражение указывает на маленький рост, а второе, наоборот, – на высокий рост человека: Пемытiнас тыдавис пистик кодь морток . «В темноте виднелся маленький человек» (Верх-Иньва Куд.) (там же); Соседö быдмис кыдз воль-гумпикан – стройнöй, ыджыт, бытшöм мыгöра. «Сосед мой вырос как дудник – стройный, высокий, ладный» (Жемчужный Гайн.) [АПМЛАС]. Фитоним вольгумпикан зафиксирован в самом северном – Гайнском – районе Коми-Пермяцкого округа. Название нуждается в структурносмысловом анализе. Коми-пермякам известны растения под названиями вольгум «дудник» (КПОС 1992: 248) и пикан «сныть» (КПРС: 339), люди их различают; тем более что пикан «сныть» является съедобным растением. Жители гайнского ареала, соединив два известных компонента, получили составной фитоним воль-гумпикан . По словам информанта, этим словом они называют дудник. Присоединение компонента пикан , возможно, произошло в силу того, что взрослая сныть так же, как и дудник, имеет полый стебель.
Пистик «хвощ полевой» и пикан «сныть» – наименования, обладающие высокой этноконнотацией (см.: [Лобанова 2017]). Пистик «хвощ полевой» связан с маскулинностью, поэтому и выражение пистик кодь морток «человек как хвощ полевой» адресовано мужчинам. Молодой пикан «сныть», реализуя мотив юности, может быть связан как с мужским, так и с женским началом.
Со словом пикан «сныть» зафиксировано еще одно выражение пикан гуммез чеглавны «ломать стебли сныти». Оно употребляется в ситуации, когда человеку икается: Пасьтöт жö буржыка кагатö, вон кыдз пикан гуммезсö чеглалö . «Одень же лучше ребёнка, вон как икает» (Коч.) (АПМ
КПО). Похожая единица зафиксирована в КПФС: Пикангуммэз чеглалö . «Стебли сныти ломает». ‘Икает (о ребенке)’ (КПФС: 150). Сухие стебли переросшей сныти действительно ломаются с треском, шумом, и это объективное свойство растения нашло отражение в данном выражении.
Физиологическая особенность человека – выпускать газы из организма – характеризуется выражением сiтаныт кыдз кöканвуж бöрын «твое заднее место как после чемерицы» (АПМЛАС). Основанием для возникновения такого выражения стал известный человеку острый запах растения.
Как видно из анализа, наибольшее количество единиц включает фитонимы пикан и пистик , обозначающие растения и активно представленные сегодня в коми-пермяцкой традиционной культуре и кухне.
Кроме них, во фразеологизмах и паремиях участвуют названия таких растений, которые обладают яркими объективными признаками: отмечены жгучесть крапивы, способность плодов репья прилипать в одежде человека и неприятный запах чемерицы.
Наименования огородных и зерновых растений
Встречаются в устойчивых выражениях и наименования огородных и зерновых культур. В данной группе единиц тоже достаточно востребованной оказалась семантическая модель растение → человек, часть растения → часть тела человека .
Чаще всего с помощью фитонимов маркируются отрицательные или нетипичные, отклоняющиеся от нормы физические или иные характеристики человека. Так, фразеологизмы боби ыж-да «величиной с боб», лук мешöк (южн. вук мешöк ) «мешок с луком» обозначают невысокого, маленького человека (КПФС: 29, 108); калиг (капуста) юр «голова калиги (капусты)», чеснöг кöзича «мешок с чесноком» – глупого человека (там же: 67–68, 200). О полном человеке могут сказать чуж кынöм «живот как пророщенная рожь» (там же: 202). Сплетника называют пыш кöдзись «сеющий коноплю» (там же: 157). С помощью выражения калиг (капуста) юр «голова калиги (капусты)» называют лысую голову (там же: 67–68).
В «Коми-пермяцком фразеологическом словаре» зафиксированы и другие единицы с участием фитонимов. Они используются уже не для передачи тех или иных признаков человека, а для обозначения действий людей. Например, фразеологизм сёртни лэдзавны «репу выпускать» имеет значение ‘рассказывать сказки’ (там же: 162), выражение кушман садитны «редьку по- садить» обозначает севшего мимо стула ребенка (там же: 93).
Паремии с участием фитонимов данной группы обозначают разные жизненные ситуации: Зöрыс оз шогмы – неыджыт беда, рудзöгыс оз шогмы – кортöн мун . «Овес не уродится – небольшая беда, рожь не уродится – попрошайничать иди» (Климов 1991: 194); Йöз бекöрас куш-маныс чöскытжык . «В чужой тарелке редька слаще» (там же: 186).
Как видно из примеров, внешние признаки и свойства растений (форма и размер) учитываются, пожалуй, лишь в выражении калиг (капуста) юр «голова калиги (капусты)» в значении «лысый» и в выражении боби ыжда «величиной с боб», обозначающем человека маленького роста.
В составе фразеологизмов и паремий участвуют прежде всего названия горьких культур (чеснока, лука, редьки) и растений семейства крестоцветных (брюквы, репы, капусты), зерновых и семенных культур (рожь, овес, конопля), составляющих основу традиционного постного стола коми-пермяков.
Завершая краткий обзор коми-пермяцких наименований растений, комментируя их культурную семантику и место в составе национальной паремии, можно сослаться на выводы известного специалиста по славянской этноботанике В. Б. Колосовой о том, что «роль признака в формировании как лексического фонда народной ботаники, так и символического образа растения чрезвычайно велика, хотя реальные признаки “фильтруются” и трансформируются языком и культурой» [Колосова 2003].
Выводы
Признаками, формирующими образ пу «дерева» в коми-пермяцкой традиционной культуре, являются те, которые обозначают различные аномалии: дерево с двумя вершинами – вожа пу ; с отростком, идущим от корня – пияна пу ; необычного цвета – чочком кöз «белая ель»; дерево, в которое ударила молния – чарöтöм пу .
В представленном материале нашли отражение реальные, прежде всего внешние признаки деревьев и трав: высота ели, крона округлой формы сосны, белая кора березы, упругость и свежесть молодой травы, вялость и безжизненность старой. Кроме того, отмеченными являются и некоторые свойства деревьев и трав – способность коры отделяться от ствола дерева и твердость древесины, жгучесть крапивы, способность плодов репья прилипать в одежде человека и неприятный запах чемерицы. Из «культурных» свойств растений в проанализированных единицах можно отметить признак «женское» для вер- бы, которая в традиционной культуре русских и коми-пермяков выступает символом девичества.
Проанализированные материалы показывают, что главным направлением развития образной семантики дендронимов и фитонимов в коми-пермяцких паремиях и фразеологизмах является вектор дерево → человек , растение → человек , то есть названия деревьев, кустарников, дикорастущих и культурных травянистых растений обозначают человека, имеющего различные характеристики (как социальные, так и физические). Реже фитонимы в составе фразеологизмов и паремий обозначают различные действия и состояния человека.
Список источников с сокращениями
АПМ КПО – Архив полевых материалов Коми-пермяцкого отделения Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
АПМЛАС – Архив полевых материалов Лобановой Алевтины Степановны.
Климов В. В. Кытчӧ тійӧ мунатӧ? Коми-пер-мяцкӧй сказкаэз, сьыланкыввез, частушкаэз, челядь понда фольклор, кӧрткыввез, фольклорлӧн учӧт жанррез. Т. II. (Куда же вы уходите? Коми-пермяцкий фольклор на коми-пермяцком языке. Т. II). Кудымкар: Пермскӧй книжнӧй издательство, Коми-Пермяцкӧй отделеннё, 1991. 288 с.
Климов В. В. Бöрйöм / Избранное. Кудымкар, 2017. 408 с.
КСК – Коми сёрнисикас кывчукöр. Словарь диалектов коми языка: в 2 т. / под ред. Л. М. Без-носиковой. Сыктывкар, 2012. Т. I: А–О. 1096 с.
КПРС – Коми-пермяцко-русский словарь / авт.-сост.: Р. М. Баталова, А. С. Кривощёкова-Гантман. М.: Рус. яз., 1985. 620 с.
КПОС – Коми-пермяцкöй орфографическöй словарь / авт.-сост.: Р. М. Баталова, А. С. Криво-щёкова-Гантман. Кудымкар, 1992. 279 с.
КПФС – Коми-пермяцкий фразеологический словарь. Труды Института языка, истории и традиционной культуры коми-пермяцкого народа. Вып. VII. / авт.-сост. О. А. Попова. Пермь, 2010. 344 с.
Материалы для словаря 2012 – Материалы для словаря коми-пермяцких названий растений: монография / авт.-сост.: Е. Л. Федосеева, И. И. Русинова, А. С. Лобанова, Ю. А. Шкура-ток, А. В. Кротова-Гарина; Перм. гос. нац. ис-след. ун-т. Пермь, 2021. 1 Мб; 116 с. URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/ Materialy-dlya-slovaryakomi-permyackih-nazvanij-rastenij.pdf.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю . Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Рос. акад. наук. Ин-т рус.
языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2008. 944 с.
СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–. Т. 1–.
Федосеев С. А. Сьöд цветтэз. Роман. Кудымкар, 1994. 326 с.
Сокращения названий районов Коми-Пермяцкого округа
Гайн. – Гайнский
Кос. – Косинский
Коч. – Кочевский
Куд. – Кудымкарский
Юсьв. – Юсьвинский
Список литературы Культурная семантика фитонимов в коми-пермяцких фразеологизмах и паремиях
- Агапкина Т. А. Символика деревьев в традиционной культуре славян: осина (опыт системного анализа) // КСК. 1996. Бр. 1. Билке. С.7-22.
- Агапкина Т. А. Деревья в славянской народной традиции: Очерки. М.: Индрик, 2019. 656 с.
- Агапкина Т. А. Символика деревьев в традиционной культуре славян: ива, верба, ракита (род Salix) // Славянский альманах. М., 2014. Вып. 12. С. 283-302.
- Бродский И. В. Финно-пермские фитонимиче-ские портреты. 1. Зверобой (Hypericum) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования); Ин-т лингв. исслед. РАН. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 73-92.
- Бродский И. В. Финно-пермские фитонимиче-ские портреты. Василек // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2016. № 28(6). С. 48-59.
- Бродский И. В. Названия боярышника и крушины в финно-пермских языках // Вестник угро-ведения. 2021. Т. 11, № 2. С. 224-232.
- Бродский И. В. Названия ромашки в финно-пермских языках // Вестник угроведения. 2022. Т. 12, № 3. С. 407-417.
- Гайдамашко Р. В. К этимологии и лингво-географии названий зонтичных растений в русских говорах Прикамья: пучка, умра // ACTA LINGÜISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. XIII. Ч. 2. Этноботаника 2: растения в языке и культуре / сост. В. Б. Колосова. СПб.: Наука, 2017. С.298-331.
- Гайдамашко Р. В. Материалы к этимологии коми-пермяцкого слова «бичуль» 'клубника' // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2019. Т. 11, вып. 3. С. 1926. doi 10.17072/2073-6681-2019-3-19-26
- Зверева Ю. В. Наименования детей в русских говорах (на материале пермских говоров) // «Slo-wa, slowa, slowa» ... w komunikacii jezykowej.
- Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego. Gdansk, 2011. С. 55-62. URL: http://lingvofolk-perm.ru/wp-content/uploads/2017/01/Наименования-детей-в-русских-roBopax.pdf (дата обращения: 06.08.2022).
- Колосова В. Б. Крапива // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. Т. 2 / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отношения, 1999. С.643-647.
- Колосова В. Б. Лексика и символика народной ботаники восточных славян: На общеславянском фоне: Этнолингвистический аспект: дис. ... канд. филол. наук. М., 2003. 181 с.
- Колосько Е. В. Метафорический перенос «Растение - человек» в русских народных говорах // Труды Института лингвистических исследований. Т. 6, № 1. СПб., 2010. С. 69-77.
- Лобанова А. С. О культурных коннотациях отдельных этнонимов в языке коми-пермяков // Традиционная культура. 2014. № 3. С. 85-91.
- Лобанова А. С. «Одежный» код в коми-пермяцких фразеологизмах // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы III Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (г. Пермь, 21 апреля 2015 г.) / отв. ред. Н. В. Соловьева, И. И. Русинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 218-223.
- Лобанова А. С. Орнитоним РАКА «ВОРОНА (ВОРОН)» в коми-пермяцком языке. Лингво-культурологический аспект // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. Вып. 4(36). С. 22-30. doi 10.17072/ 2037-6681-2016-4-22-30
- Лобанова А. С. О культурной коннотации коми-пермяцких фитонимов пикан, пистик, горад-зуль // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы V Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. (г. Пермь, 10 апреля 2017 г.) / отв. ред. И. И. Русинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. С. 240-248.
- Лобанова А. С. Этноконнотированная лексика коми-пермяцкого языка (на материале наименований флоры) // Языковые контакты народов Поволжья и Урала: сб. ст. XI Междунар. симпозиума (Чебоксары, 21-24 мая 2018 г.) / сост. и отв. ред. А. М. Иванова, Э. В. Фомин. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. С. 124-127.
- Подюков И. А., Свалова Е. Н. Паремия в русских народных говорах Прикамья: семантика и прагматика. СПб.: Маматов, 2019. 224 с.
- Русинова И. И., Лобанова А. С., Федосеева Е. Л. Коми-пермяцкие фитонимы, содержащие названия животных // Ежегодник финно-угорских исследований. 2022. Т. 16, № 4. С. 578-591.
- Русинова И. И., Федосеева Е. Л. Коми-пер-мяцко-русский словарь названий растений // Филология в XXI веке. 2019. Вып. 1(3). С. 134-142.
- Толстая С. М. Категория признака в символическом языке культуры // Признаковое пространство культуры. М.: Индрик, 2002. С. 7-20.
- Федосеева Е. Л., Русинова И. И. Синонимия и многозначность коми-пермяцких фитонимов // LINGUISTIC TYPOLOGY 2: Проблемы лингвистической типологии и культурологии // Проблемы лингвистической типологии и культурологии»: материалы II Междунар. симп., посвящ. 90-летию Удмурт. гос. ун-та и удмуртского филологического образования в вузе (Ижевск, 28 мая 2021 г.): Ижевск: Удмурт. ун-т, 2021. С. 226-232.