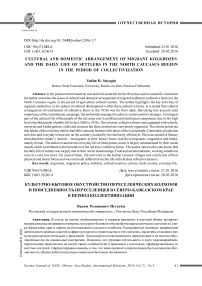Культурно-бытовое обустройство переселенческих колхозов и повседневность переселенцев в Северо-Кавказском крае в период коллективизации
Автор: Истягин Вадим Роланович
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 3 (39), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе опубликованных и впервые вводимых в научный оборот архивных материалов рассматриваются вопросы культурно-бытового обустройства переселенческих колхозов в Северо-Кавказском крае в период коллективизации сельского хозяйства. Раскрываются основные направления деятельности краевых властей в сфере культурного строительства в этих колхозах, масштабы создания в них культурно-просветительских учреждений. Анализируется повседневность переселенцев и во многом обусловленные ею их социальные настроения. Показано, что трудовая деятельность и досуг красноармейцев-переселенцев практически не имели своих особенностей в сравнении с колхозами, сформированными из местных жителей. Сформулированы выводы о том, что повседневность переселенцев была во многом обусловлена их общим неблагополучным социально-бытовым положением.
Переселение, переселенческая политика, колхоз, коллективизация, культура, быт, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/14972122
IDR: 14972122 | УДК: 94(47).084.6 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2016.3.7
Текст научной статьи Культурно-бытовое обустройство переселенческих колхозов и повседневность переселенцев в Северо-Кавказском крае в период коллективизации
«L^ §н
DOI:
В современных реалиях миграционные процессы создают ряд проблем, которые требуют от государства активных действий по их решению. Переселенческая политика является составной частью стратегии экономического и социального развития страны. Государственное регулирование миграционных процессов в России представляет собой проблему, учитывающую целый комплекс факторов, включая масштабы территории, схему расселения, протяженность границ, особенности развития отдельных регионов, состояние рынка труда и многие другие. Все эти факторы обусловливают настоятельную потребность изучения имеющегося опыта организации государственного планового переселения и регулирования переселенческих потоков.
Одним из важных факторов организации колхозной системы являлась государственная переселенческая политика. Переселенческое движение было представлено в нескольких ипостасях: социальной, хозяйственной, политической и культурной, что дает основания трактовать его в качестве важнейшей составной части осуществления коллективизации, предопределившей специфику реализации аграрной политики на Юге РСФСР.
Целью данной статьи является рассмотрение одного из важных аспектов реализации переселенческой политики, а именно культурно-бытовое обустройство переселенческих колхозов и повседневности переселенцев в Северо-Кавказском крае в период коллективизации.
Отдельные вопросы данной темы получили определенное освещение в работах Н.И. Плату-нова [9], Н.С. Тарховой [16], А.П. Скорика и С.Д. Багдасарян [14]. В то же время объектом специального научного исследования данная проблема вплоть до настоящего времени не являлась.
Прибывшие на кубанскую землю в период коллективизации сельского хозяйства красноармейцы-переселенцы должны были не только добросовестно работать в колхозах и МТС и увеличивать объемы поставок сельскохозяйственной продукции государству. Они также должны были стать образцом зажиточного колхозника и воочию демон- стрировать преимущества жизни в коллективизированной станице. Но, поскольку сельская жизнь заключалась не только в работе на колхозных полях и фермах, немалое внимание власть уделяла культурному строительству и организации досуга переселенцев – молодых людей с семьями.
Неотъемлемой частью культурной жизни переселенцев-красноармейцев являлась ее политико-идеологическая составляющая, что объяснялось общим высоким уровнем политизации общественной жизни в СССР в 1930-е годы. Красноармейцы-переселенцы, будучи социальной опорой власти, обязаны были регулярно повышать уровень своей политической грамотности.
На протяжении 1920-х гг. в нэповскй деревне и станице Юга России было сделано немало для становления и развития различных форм культуры [14]. Но раскулачивание и выселение населения, голод 1932–1933 гг., депортация жителей «чернодосочных» станиц 1 и разгул насилия в отношении селян отнюдь не способствовали развитию культурной жизни и улучшению состояния колхозных клубов и библиотек. В этой связи некоторые воинские части, направлявшие завербованных добровольцев в станицу Красноармейскую (бывшую «чернодосочную» станицу Полтавскую), снабжали их не только продуктами питания, но и столь необходимыми в разоренной станице предметами культпросвета: кинопередвижками, радиочемоданами, гармошками, пластинками, балалайками, мандолинами, шашками, домино, литературой и даже чистой бумагой для написания писем [16, с. 254]. Однако привезенного имущества было явно недостаточно для налаживания культурной жизни в новых красноармейских колхозах. Так, красноармейцы созданного в станице Красноармейской колхоза имени Балицкого в направленном в июне 1933 г. письме в штаб Северо-Кавказского военного округа сообщали о своей жизни. Отметив, что сумели навести хозяйственный порядок в колхозе и успешно провели посевную кампанию, авторы письма пожаловались на низкий культурный уровень в колхозе, порожденный дефицитом средств и царившей в станице разрухой. Они сетовали, что в ленинских уголках мало книг и нет радиоприемников, нет учебников для политпросвещения, отсутствуют музыкальные инструменты и спортивные снаряды [1, с. 203–204]. Некоторых холостых красноармейцев тянуло в город на стройки промышленных предприятий, они жаловались: «бурьяну на улицах много», «скучно, людей мало», «кино нет» и т. д. [9, с. 212]. Переселенец Петр Голиков из станицы Старовеличковской Тима-шевского района в ноябре 1933 г. сообщал бывшим сослуживцам: «станица очень хорошая, вся в садах, выйдешь из дома – здесь сад и все удовольствия, но народу очень мало, веселья никакого нет» [7, л. 67]. Отсутствие элементарных способов проведения досуга и необустроенность клубов во многих станицах в совокупности с материально-бытовыми проблемами являлись вескими причинами обрат-ничества, то есть возвращения прибывших добровольцев обратно на прежние места жизни. О необходимости развития в переселенческих станицах культуры говорилось в совместном постановлении бюро крайкома, президиума крайисполкома и политсектора МТС «О положении переселенцев-красноармейцев» от 1 октября 1934 года. Культурно-пропагандистскому отделу крайкома (культпроп) было поручено в декадный срок наметить конкретные мероприятия по оживлению культурной жизни в красноармейских колхозах: клубы, кружки, кино, радио [11, л. 14]. Краевая власть теперь обращала внимание на инициативы местного руководства в культурой сфере. 14 октября объединенное бюро крайкома и политсектора МТС рассматривало вопрос о положении переселенцев-красноармейцев в колхозах Динской и Роговской МТС. Начальнику политотдела Ново-Мышастовской МТС Октябрьскому было указано на явную незаконность его распоряжения о передаче музыкальных инструментов (гармони, балалаек, патефонов), полученных красноармейцами как подарок от своей воинской части, в сельскую читальню, где они были разбиты. Ему было предложено немедленно приобрести такие же инструменты и возвратить переселенцам-красноармейцам [12, л. 8]. В конце октября крайком постановил: «Учитывая, что в ст[а-нице] Старо-Щербиновской, имеющей значи- тельный контингент красноармейцев-переселенцев, нет оборудованного колхозного клуба, разрешить райкому [и] РИКу деньги от проданной закрытой церкви использовать на оборудование межколхозного клуба» [12, л. 12 об.].
Развернутый перечень мероприятий по оживлению культурной жизни в красноармейских колхозах 2 был утвержден крайкомом 18 ноября 1934 г. в ответ на упоминавшееся совместное постановление краевого руководства от 1 октября. В постановлении были введены три направления работы: «по линии по-литпросветработы и распространению печати», «по кино» и «по самодеятельному искусству». Крайком обязал краевой отдел народного образования (КрайОНО) развернуть по всем 60 кубанским станицам, в которых расположены красноармейские колхозы и бригады, сеть общеобразовательных школ для взрослых (начальных и повышенного типа) с таким расчетом, чтобы охватить учебой всех неграмотных и малограмотных членов красноармейских семей. Для красноармейских школ обеспечивались повышенные нормы обеспечения учебниками и учебными пособиями. Госкультснаб обязали в течение декады отгрузить по целевому назначению в красноармейские колхозы учебные пособия и принадлежности. КрайОНО (Баруличева) обязали командировать в красноармейские станицы 20 квалифицированных политпросветработников, обязав их в 2-декадный срок проверить работу политпросветучреждений, подобрать культработников и наладить политпрос-ветработу. Согласно плану КрайОНО на 1934 г. опорные библиотеки были образованы только в 32 станицах, а потому крайком обязал КрайОНО с привлечением КрайЗУ, политсектора МТС и крайкома союза МТС обеспечить организацию опорных библиотек в остальных 28 станицах не позднее 15 ноября текущего года. Краевому библиоколлектору КОГИз, в свою очередь, надлежало обеспечить комплектование этих библиотек литературой. Крайкому союза МТС предложили принять на работу библиотекарей до конца 1934 года. Средства на комплектование библиотек «должны быть организованы» КрайОНО в соответствии с постановлением Наркоматов просвещения, земледелия, Политуправления МТС и ЦК союза МТС с привлечением дополнительных средств шефствующих над станицами предприятий. Крайком также обязал КрайОНО выделить из дополнительных ассигнований 30 тысяч рублей на пополнение нуждающихся в срочном комплектовании опорных библиотек в красноармейских станицах (Ленинградская и др.). Руководство КОГИЗ, Союзпечать и Крайпотребсоюз крайком обязал взять на усиленное снабжение литературой киоски при политотделах МТС в красноармейских станицах [10, л. 35–35 об.].
Если библиотеки были организованы в половине станиц с переселенцами, то ситуация с кинематографической сетью была значительно хуже. В станицах существовали «киностационары», но использовались далеко не по назначению. Крайком обязал Заготзерно немедленно освободить и отремонтировать занятые им киностационары в станицах Кущевской, Темижбекской, Тимашевской, Ста-ро-Величковской и Ново-Рождественской, освободить и «привести в надлежащий вид» частично занятые помещения кинематографа в других станицах. Азчеркино (Семенов) поручили в 2-декадный срок совместно с местными организациями обеспечить электроэнергией бездействующие киностационары в станицах Поповической, Ладожской и Старо-Кор-сунской [10, л. 15 об.].
В плане работы самодеятельности крайком обязал управление театрально-зрелищных предприятий (УТЗП) КрайОНО (Полянский) организовать шефство театров над красноармейскими станицами 3 по районам: Большой Ростовский театр – Кущевский, Ростовский ТРАМ (Театр рабочей молодежи) – Славянский, Ростовский ТЮЗ – Тимашевский, Таганрогский театр – Павловский, Ейский театр – Ейский, Армавирский театр – Армавирский, Краснодарский театр – Краснодарский. На шефствующие театры была возложена организация «художественного обслуживания» подшефных станиц путем выделения художественных коллективов, организации новых художественно-самодеятельных кружков, инструктажа существующих и проведение краткосрочных (10–15 дней) курсов кружководов этих станиц. КрайОНО (Баруличева) обязали скомплектовать и выслать во все красноармейские станицы по одной библиотечке (пьесы, ноты, методические указания и др.) сто- имостью в среднем до 20 рублей за счет средств культфонда колхозов [10, л. 35–35 об.].
10 января 1935 г. бюро крайкома предложило райкомам с целью усиления массовой работы с красноармейцами-переселенцами и улучшения их культурно-бытового обслуживания прикрепить из числа районного партактива к каждому красноармейскому колхозу и бригаде одного ответственного. Крайком определил, что «прикрепленный товарищ» был обязан не менее одного раза в месяц лично бывать в подшефном колхозе или бригаде [13, л. 12]. Таким образом, краевое руководство наметило к реализации широкую программу оживления культурной жизни в переселенческих станицах и определило ответственных за проведение этой работы.
Однако реальная ситуация с культурной жизнью в станицах была далекой от идеала. Из колхоза имени Менжинского станицы Пла-стуновской Кореновского района весной 1934 г. сообщалось: «...очень плохо с культобслужи-ванием бригад, за все время не было ни одной кинопостановки» [4, л. 24].
Проведенная в конце 1934 г. крайисполкомом и крайкомом партии проверка положения дел в сфере культурного развития в отдельных красноармейских колхозах Черноморья выявила, что работа эта находилась на «недопустимо низком уровне» [2, л. 24]. В составленной по итогам данной проверки докладной записке заместителя начальника краевого земельного управления Лучанинова секретарю крайкома ВКП (б) Малинову «О состоянии партийно-массовой работы в переселенческих красноармейских колхозах Черноморья» отмечалось, что в колхозах совершенно недостаточна база для организации культурной работы: не пополнялись библиотеки, плохо или совсем не работали радиоточки, не устраивались читки газет. Вывод доклада был неутешительным: «отсутствие организованного культурного развлечения, увязки его с производственными задачами, стоящими перед колхозами», вело в отдельных колхозах к ослаблению трудовой дисциплины, к пьянкам среди красноармейского состава, хотя и стоявшего на более высокой ступени культурного развития, чем старожильский состав [2, л. 24–25].
Значительные проблемы существовали и в плане бытового обустройства переселен- цев и их продовольственного снабжения. Так, в конце года на трудодни колхозникам-переселенцам выдавали натуральную оплату продуктами питания. Но по причине скудного материально-бытового снабжения они были вынуждены приобретать за собственные средства одежду и обувь, продавая часть полученных продуктов. В колхозе имени Ворошилова Советской МТС Армавирского района красноармейцы осенью 1933 г. получили на трудодень овощи, мед, деньги и по 13 кг зерна [17, с. 550–551]. В 1934 г. колхозникам колхоза имени Балицкого Славянского района было выдано на трудодень по 7 кг муки, всего предполагалось выдать по 12–13 кг, из них муки – по 10 кг. Из полученной на трудодни муки к середине сентября 1934 г. колхозники продали кооперации около 30 т и полученные деньги «обращают на заказ одежды и обуви и велосипедов» [3, л. 32].
А как оценивали свою жизнь на новом месте сами переселенцы? Реалии повседневной жизни на новом месте переселенцы излагали в письмах, в которых откровенно и без оглядки на колхозное начальство описывали свою жизнь. Некоторые были довольны новым местом жительства и с удовлетворением сообщали об этом в своих письмах. Один из безвестных переселенцев был полон решимости: «Чувствую, что в работе произошел большой перелом. Работал ведь я и до армии, но теперь появилась какая-то решительность, самоуверенность в начатом деле, в его победе и твердости, которой не хватало. Красная армия на 100 процентов ворочает человека» [8, с. 117]. Армейские политработники использовали подобные отзывы для приукрашивания истинной картины социально-бытового устройства переселенцев. Тем не менее среди переселенцев действительно были люди, искренне приветствовавшие свое переселение на кубанскую землю и с оптимизмом смотревшие на работу в созданных красноармейских колхозах. Сложно определить, какая часть переселенцев высказывала положительные отзывы о жизни на кубанских станицах, но таковые, безусловно, были.
Но для большинства переселенцев условия повседневной жизни были не такими идеальными. Автору удалось обнаружить несколько опубликованных писем красноармей- цев. Так, в письме бывшего красноармейца Исупова военкому 32-го стрелкового полка от 8 апреля 1933 г. говорилось: «Во-первых, хочу Вам передать большевистский привет, а дальше сообщу, как мы в настоящее время живем. Живем очень плохо, почти по суткам живем голодные. Сейчас сеем, сеять не на ком, лошадей в бригаде 17, посеяли 60 га, лошади стали, не ходят, приходится пахать и сеять на людской силе. Хлеба дают, что корм, 400 г на день. Эх, знал бы, что я помру здесь от голода и скоро, то покончил бы сам себя. За что нас сюда выгнали... Но мы до осени как-нибудь прожили бы, но наши-то семьи за что здесь погибают, едят хлеба 200 г, а хлеб мы Вам пошлем в посылке на пробу, наверно, наши бы свиньи в части не стали бы есть. Я определенно заявляю, пущай судят, живу только до осени, только если останусь жив. Вот какая нам пришла жизнь, что от голода десятки помирают каждый день» [6, с. 473].
Второе письмо бывшего красноармейца В.Г. Шустикова из колхоза имени Шеболдаева станицы Уманской Павловского района Северо-Кавказского края бывшему командиру от 11 марта 1933 г.: «Так вот, товарищ Васев. Зачем меня завербовали... Вы говорили, что там будет очень хорошо жить, но это все неправда. Я живу в настоящее время очень плохо, так плохо, что в жизни не встречался с таким положением. Кормят нас совсем плохо... Продукты совершенно ничего не дают, еле-еле уже ноги таскаем, работать очень здорово придется. Работать-то бы мы работаем, но кое-как ноги таскаем. Очень уж много народу обратно убежали отсюда, потому что невозможно жить, и еще много, наверное, удерут» [6, с. 474].
Следует подчеркнуть, что подобная картина переселенческой повседневности наблюдалась не только в «чернодосочных» станицах, но и остальных кубанских районах и станицах. Красноречиво описал свое житье переселившийся в октябре 1933 г. в Тихорецкий район бывший красноармеец 111-го артиллерийского полка (Ленинградский военный округ) С.П. Телегин в письме на имя военкома полка: «Теперь я хочу коснуться личной жизни. Живем мы в одной квартире 4 чел. – Суворов, Комельков, Дударев и я. Спим на голых нарах, постельных принадлежностей нет, стола нет, ламп нет, скамеек нет, пища очень скверная, больше всего капуста и фасоль...» [15, с. 271].
Объективные сведения об устройстве и жизни переселенцев на новом месте содержатся в предназначавшемся руководству Всероссийского переселенческого комитета докладе местного руководства ОГПУ об итогах переселения. В декабре 1933 г. чекисты констатировали, что уже с прибытием первых эшелонов с переселенцами в станицы выявился целый ряд «организационных неполадок», вызвавших недовольство и отрицательные настроения красноармейцев [5, л. 18]. В целом повседневный быт и условия труда переселенцев были на крайне низком уровне: «для переселенческих бригад в поле не были организованы стоянки, допускались случаи уравниловки в питании, качество питания было низкое, имели место грубые обращения с переселенцами, расходование не по назначению кредитов, отпущенных для переселенцев и т. п.» [5, л. 19].
Побывавший в командировке на Кубани сотрудник газеты «Правда» А. Дунаевский в феврале 1934 г. в письме главному редактору газеты Л.З. Мехлису изображал типичную картину жизни переселенческой семьи: «Приходишь в хату красноармейской семьи. Их 6– 8 человек, на всех 1–2 стула и 1 кровать, нет даже стола. Вечером сидят без света, ибо кооперация отказывается снабжать керосином. Надо было отремонтировать хаты, но предназначенные для красноармейцев стройматериалы Усть-Лабинский райисполком израсходовал на свои нужды» [3, с. 355].
Среди переселенцев имели место различные социальные девиации, наиболее частыми были пьянство и драки. В декабре 1933 г. в спецсообщении ОГПУ отмечалось, что имевшиеся недочеты в хозяйственно-бытовом устройстве, а также агитация «к. р. элемента» отрицательно влияет на наименее устойчивую часть переселенцев. За последнее время отмечались случаи «антиморальных проявлений»: пьянство и дебоши [15, с. 265]. В станицах Те-мижбекской Кропоткинского района и Велич-ковской Тимашевского района было отмечено 3 случая «групповых пьянок» красноармейцев, причем в Темижбекской 2 «пьянки» сопровождались драками с применением ножей [5, л. 21].
Таким образом, культурно-бытовое обустройство переселенческих колхозов в
1930-е гг. было далеким от идеала. Но принимая во внимание государственное значение переселенческой кампании, удалось добиться определенных позитивных сдвигов. В красноармейских колхозах были открыты и оборудованы школы, ясли и детские сады, имелись клубы, а кое-где и кинотеатры, однако обеспечены они были крайне скудно. И если школы и детские сады работали, то учреждения культуры и досуга – библиотеки, клубы, кинотеатры – из-за плохой организации их работы и просто нерадивого отношения к своей деятельности их сотрудников, часто бездействовали. В библиотеках имелись газеты, журналы и книги, но грамотность, особенно среди женщин, была низкой. Краевое руководство придавало серьезное значение всемерному развитию культуры в колхозах, принимало решение о развитии трех направлений культуры: политпросветработы и печати, кинематографа и самодеятельного искусства (театра). Наибольшие успехи были достигнуты в развитии сети колхозных библиотек. Трудовая повседневность и досуг красноармейцев-переселенцев практически не имели своей особенности в сравнении с колхозами, сформированными из местных жителей.
Общность производственной деятельности и повседневного досуга предопределила схожесть образа жизни. Переселенцы, как и все колхозники, в 1930-е гг. жили весьма скудно, хотя и стремились приобрести одежду и обувь, некоторые даже имели предмет роскоши – велосипед, что являлось признаком известной зажиточности. Массовое распространение грамотности стимулировало читательский интерес – переселенцы в часы досуга читали газеты, журналы и книги, главным образом беллетристику. Основным источником получения книжной печатной продукции являлись, естественно, колхозные библиотеки. Периодическую печать либо брали там же, либо приобретали самостоятельно. Слушали радио, если оно имелось и работало, смотрели кинокартины. Особенностью культурной жизни для переселенцев стало их участие в школах парт-просветучебы. Впрочем, далеко не все красноармейцы демонстрировали успехи в изучении сочинений большевистских вождей, резолюций партийных съездов и пленумов, о чем с сожалением отмечали местные парторги.
Неудовлетворительное состояние местной культуры часто становилось причиной распространения социальных девиаций, традиционных для деревни форм проведения «досуга» – среди красноармейцев фиксировались случаи пьянства, как следствие снижалась трудовая дисциплина. Не способствовали развитию культуры объективные трудности становления красноармейских колхозов. Повседневность переселенцев была во многом обусловлена их социально-бытовым неблагополучием. Жилье и питание переселенческих семей, условия труда не выдерживали никакой критики и были на крайне низком уровне.
Список литературы Культурно-бытовое обустройство переселенческих колхозов и повседневность переселенцев в Северо-Кавказском крае в период коллективизации
- Бочарова, О. В. Формирование и деятельность политических отделов МТС в казачье-крестьянских районах Юга России: дис.. канд. ист. наук/Бочарова Ольга Владимировна. -Новочеркасск, 2015. -278 с.
- Докладная записка заместителя начальника краевого земельного управления Лучанинова секретарю крайкома ВКП(б) Малинову о состоянии партийно-массовой работы в переселенческих красноармейских колхозах Черноморья, б/д//Центр документации новейшей истории Ростовской области (далее -ЦДНИРО). -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 112.
- Докладная записка инструктора сельхозотдела М.И. Судьбина секретарю крайкома ВКП(б) Малинову по вопросу о результатах проверки первичной парторганизации колхоза им. Балицкого Славянского района, б/д//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 61.
- Доклад секретаря парткома колхоза им. Менжинского станицы Пластуновской Кореновского района Азово-Черноморского края С. Сурба в сельхозотдел крайкома ВКП(б) Золотареву, б/д//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 43.
- Доклад секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю и Дагестанской ССР «Об итогах переселения красноармейских хозяйств в Северо-Кавказский край (октябрь-декабрь 1933 г.)»//Российский государственный архив экономики. -Ф. 5675. -Оп. 1. -Д. 43.
- Донесение начальника политотдела 11-й стрелковой дивизии Гладышева начальнику Пол туправления Ленинградского военного округа И.Е. Славину о продовольственных затруднениях в стан. Уманской Северо-Кавказского края, 29 апреля 1933 г.//Голод в СССР. 1929-1934. Документы. В 3 т. Т.2: Июль 1932 -июль 1933 г. -М.: МДФ, 2012. -1116 с.
- Копии писем красноармейцев-переселенцев из Приволжского военного округа, направленные начальником Главного управления РККА Фельдманом командующему войсками СКВО, и в копии секретарю Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) Шеболдаеву, 25 января 1934 г.//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 25.
- Очевидцы рассказывают//Родная Кубань. -2002. -№ 3.
- Платунов, Н. И. Переселенческая политика советского государства и ее осуществление в СССР (1917 -июнь 1941 г.)/Н. И. Платунов. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1976. -381 с.
- Постановление бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) от 22 ноября 1934 г. «О мероприятиях по оживлению культурной жизни в красноармейских колхозах»//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 63.
- Протокол № 28 заседания бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) от 2 октября 1934 г. Объединенное решение бюро крайкома, президиума крайисполкома и политсектора МТС «О положении переселенцев-красноармейцев»//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 58.
- Протокол № 30 заседания бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) от 23 октября 1934 г.//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 60.
- Протокол № 37 заседания бюро Азово-Черноморского крайкома ВКП(б) от 10 февраля 1935 г.//ЦДНИРО. -Ф. 8. -Оп. 1. -Д. 110.
- Скорик, А. П. Крестьянская повседневность эпохи нэпа: досуг и праздник в южно-российской деревне в 1920-е годы/А. П.Скорик, С. Д. Багдасарян. -Новочеркасск: Лик, 2012. -239 с.
- Спецсообщение секретно-политического отдела ОГПУ СССР «О ходе вселения красноармейских хозяйств в Северо-Кавказский край», 3 декабря 1933 г.; Спецсообщение Особого отдела ОГПУ СССР «О недочетах в ходе переселения в колхозы Северо-Кавказского края демобилизованных красноармейцев и их семей», 13 декабря 1933 г.; Письмо сотрудника газеты «Правда» А. Дунаевского главному редактору «Правды» Л.З. Мехлису о командировке на Кубань, не позднее 24 февраля 1934 г.//Голод в СССР. 1929-1934. Документы. В 3 т. Т. 3: Лето 1933-1934 гг. -М.: МДФ, 2013. -960 с.
- Тархова, Н. С. Красная армия и сталинская коллективизация. 1928-1933 гг./Н. С. Тархова. -М.: Российская политическая энциклопедия, 2010. -375 с.
- Характеристика колхозов им. Левандовского Наурской МТС и им. Ворошилова Советской МТС для рассмотрения вопроса о занесении их на Всесоюзную красную доску, 9 октября 1933 г.//Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе (1927-1937 гг.). -Краснодар: Книжное издательство, 1972. -824 с.