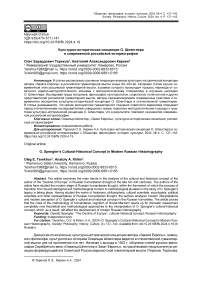Культурно-историческая концепция О. Шпенглера в современной российской историографии
Автор: Терехов О.Э., Киркин А.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные тенденции анализа культурно-исторической концепции автора «Заката Европы» в российской гуманитарной мысли конца XX-XXI вв. Авторами статьи изучен современный этап российской гуманитарной мысли, в рамках которого происходит процесс перехода от советского идейно-методологического монизма к методологическому плюрализму в изучении наследия О. Шпенглера. Исследовав труды историков, философов, культурологов, социологов, политологов и других представителей российской гуманитарной мысли, авторы проанализировали современные трактовки и современное восприятие культурно-исторической концепции О. Шпенглера в отечественной гуманитарии. В статье доказывается, что кризис методологии гуманитарного познания советского марксизма открывает перед отечественными исследователями совершенно новые теоретико-методологические подходы к трактовке культурно-исторической концепции О. Шпенглера, что в результате, повлияет на развитие современной российской историографии.
Освальд шпенглер, «закат европы», культурно-историческая концепция, российская историография
Короткий адрес: https://sciup.org/149145363
IDR: 149145363 | УДК: 930(470+571):141 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.19
Текст научной статьи Культурно-историческая концепция О. Шпенглера в современной российской историографии
1,2Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия , ,
, https://orcid.org0000-0002-8833-6515 ,
2023), отечественные гуманитарии неоднократно возвращались к оценке исторических, культурологических, политических взглядов Шпенглера. На всех этапах развития новейшей отечественной гуманитарии этот интерес был обусловлен различными эпистемологическими и общественно-политическими факторами, которые выдвигались на первый план в силу тех или иных обстоятельств. В советский период эти обстоятельства зачастую диктовались в большей степени идеологической целесообразностью, борьбой с проявлениями кризиса реакционной «буржуазной» идеологии, ярким представителем которой считался Шпенглер.
В современной российской гуманитарной мысли, сбросившей с себя идеологические оковы советского марксизма, произошла кардинальная переоценка интеллектуального наследия Шпенглера и, конечно, в первую очередь его знаменитой культурно-исторической концепции мировой истории. Цель данной статьи – рассмотреть основные тенденции анализа культурно-исторической концепции автора «Заката Европы» в российской гуманитарной мысли конца XX–XXI вв. Методологической основой исследования стал принцип историзма и сравнительно-исторический метод. На основе анализа работ историков, философов, культурологов, социологов, политологов и др. представителей российской гуманитарной мысли рассмотрены современные трактовки и взгляды на культурно-историческую концепцию Шпенглера в отечественной гуманитарии.
В 1991 г. выходит книга философа Б.Л. Губмана, посвященная анализу проблемы «смысла истории» в западных философско-исторических концепциях XX столетия (Губман, 1991). Эта работа носила переходный характер от советского идейно-методологического монизма к методологическому плюрализму российской гуманитарной мысли. Автор полагает, что существуют универсальные исторические ценности, которые могут объединить человечество в поиске смысла истории, но он также и не отрицает наличие различных мировоззренческих и, соответственно, исследовательских практик в изучении и понимании истории и уж тем более ее смысла. В частности, говоря о циклических концепциях философии истории, Б.Л. Губман утверждает: «Сегодня наряду с недостатками циклических концепций истории становится очевидным, что их создатели справедливо обращают внимание на наличие повторяемости в эволюции отличных друг от друга культур» (Губман, 1991: 12).
Касаясь оценки Шпенглера, Губман относит его к течению современной неклассической западной философии, представители которого, в отличие от классической европейской философии, сомневались в единстве всемирной истории и ее поступательном развитии. Особенно это явно проявилось в концепции локальных цивилизаций, главным представителем которой Губман считает Шпенглера, Тойнби и Сорокина. «Закат Европы» Шпенглера был, по убеждению Губ-мана, порождением кризисной эпохи того времени. Поэтому обвинять немецкого философа в том, что он сделал слишком пессимистические выводы, рассматривая закат европейской культуры, было бы не совсем справедливо. Книга Шпенглера – интеллектуальный продукт своего времени со всеми ее плюсами и минусами. Значение труда немецкого философа Губман видит в том, что «остро ощущая кризис общества и культуры Запада, Шпенглер пытается предложить собственное видение его истоков» (Губман, 1991: 77).
В 1993 г. издательство «Мысль» в серии «Философское наследие» публикует первый том «Заката Европы» в новом переводе К.А. Свасьяна. Том предваряет большой очерк «Освальд Шпенглер и его реквием по Западу», написанный переводчиком (Свасьян, 1993) и который, пожалуй, стал первым деидеологизированным исследованием жизни и творчества Шпенглера в отечественной гуманитарной мысли. Особенность очерка заключалась в следующем: работая над переводом текста «Заката Европы», Свасьян так вжился в роль своего персонажа, что, излагая его судьбу и учение, невольно воспринял пафосную манеру письма Шпенглера. Очерк буквально перенасыщен виртуозной вязью идей, образов и метафор, связанных друг с другом в большие сложноподчиненные предложения и не менее гигантские, страничные абзацы. Свасьян показывает становление и развитие личности и учения Шпенглера в широком социокультурном контексте его времени. Вывод Свасьяна таков: «Парадоксально, но именно эта книга, хоронящая Европу, сегодня оказывается бессмертным напоминанием о Европе» (Свасьян, 1993: 120).
Диссертация Т.Б. Карулиной посвящена, по словам автора, актуализации различных сторон учения Шпенглера в современной гуманитарной мысли Запада1. Она констатирует: «Шпен-глеровская концепция философии истории и современные концепции, развивающиеся в традиции Шпенглера, противопоставили себя диалектическому подходу, концепциям прогрессивного развития человеческого общества»2. Карулина выделяет феномен шпенглерианства, охвативший многочисленных последователей Шпенглера на Западе из различных идейно-теоретических течений. Карулина отмечает главную тенденцию шпенглерианства – стремление канонизировать и модернизировать культурно-историческое учение автора «Заката Европы» в соответствии с задачами современности. Это, по ее мнению, больше затрудняет понимание сути культурно-исторической и политической концепции Шпенглера, чем помогает выявить ее реальные противоречия и значение ее отдельных компонентов для современности.
Во второй половине 1990-х гг. к творчеству Шпенглера обратились отечественные историки. Первой такой публикацией стала статья известного историка-германиста А.И. Патрушева, написанная в жанре биографического очерка (Патрушев, 1996). Автор не ставил перед собой задачи подробного анализа культурно-исторической и политической концепции Шпенглера, хотя по ходу изложения материала он это, конечно, делает. Значимость очерка заключается в том, что он стал первым в отечественной историографии подробным биографическим исследованием: автор полностью деидеологизирует свой подход к изучению жизни и творчества Шпенглера, рассматривая их на широком социокультурном фоне эпохи. Патрушев полагал, что в «споре о Шпенглере» время расставило все по местам. Из «Заката Европы», по мнению автора, не выросла какая-либо заметная философская или иная традиция, за исключением философии техники, у истоков который стоял Шпенглер (Патрушев, 1996: 144), но сама книга стала культурным феноменом Запада и этим оказывала и оказывает определенное влияние.
На рубеже 1990–2000-х гг. к творчеству Шпенглера обращаются представители школы гуманитарных исследований Томского университета. Философ В.Н. Сыров в контексте разработанной им оригинальной концепции западноевропейской философии истории писал о том, что «Закат Европы» стал для европейской философии истории книгой симптоматичной, «этим трудом фактически были подведены итоги как теоретико-познавательным исканиям, так и порожденным ими культурным ценностям значительного исторического периода в жизни Европы» (Сыров, 1997: 376). Сыров полагает, что в культурно-исторической концепции Шпенглера произошло завершение определенного опыта европейского понимания принципа историчности, в котором заканчивается и само действие этого принципа. Сыров сравнивает по значимости «коперниканский переворот» в истории Шпенглера с идеей М. Хайдеггера о конце метафизики в философии. «Европейская философия истории закончилась, потому что в рамках идеи мира как представления все возможные ее варианты были проработаны» (Сыров, 1997: 392).
В 2001 г. известный томский специалист по методологии истории, советский и российский историк Б.Г. Могильницкий в первом выпуске своего курса лекций по истории исторической мысли называет «Закат Европы» знаковой книгой XX в. (Могильницкий, 2001: 128–129), а самого Шпенглера – самым мифологичным мыслителем XX в. (Могильницкий, 2001: 143). По мнению Могиль-ницкого, именно в «Закате Европы» идея локальных культур получила фундаментальное обоснование, благодаря которому книга стала достоянием исторической мысли прошедшего столетия, а главное значение Шпенглера он видел в возрождении им историко-культурной проблематики.
После 2000 г. в современной отечественной историографии интеллектуального наследия Шпенглера выделяются два направления. Первое акцентирует свое внимание, собственно, на культурно-исторической концепции Шпенглера в контексте немецкой и мировой философско-исторической и культурологической мысли. Второе направление обратилось к малоизученной в советской гуманитарной мысли части наследия Шпенглера – политической концепции и политических взглядов автора «Заката Европы» в рамках идеологии «консервативной революции». Именно консервативные политические взгляды Шпенглера, которые являются составной частью его культурно-исторической концепции, стали предметом острой критики не только марксистских авторов. Эти направления, конечно, пересекаются друг с другом, но в их наличии все же появилась некоторая автономия при изучении предметных областей интеллектуального наследия Шпенглера. Особенно эта тенденция проявилась в диссертационных исследованиях о немецком философе.
В диссертации А.К. Камкина предпринята попытка сравнения и выявления значения для современности культурологических концепций Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера1. Автор отмечает возросший интерес к циклическому подходу в изучении мировой культуры мировой гуманитарной мыслью, что обусловило ее возращение к основоположникам этого подхода. Камкин в ходе своего исследования выявляет источники, сходство и различия, значение и влияние культурологических концепций Данилевского и Шпенглера, которые стояли у истоков теории локальных цивилизаций. Автор отмечает значение этих концепций для становления культурологии.
Проблеме сравнения Данилевского и Шпенглера также посвящено диссертационное исследование О.В. Прорешной2. В его основе лежит анализ принципа системности в культурноисторических концепциях Данилевского и Шпенглера. Прорешная, так же как и Камкин, исходит из актуальности цивилизационного подхода к истории и культуре, который развивали Шпенглер и Данилевский, поскольку системность европоцентристского взгляда на историю и культуру не отвечает современности. Интеллектуальная ценность концепций Шпенглера и Данилевского для современной гуманитарной мысли заключается в том, что они рассматривают историю и культуру в рамках неклассической рациональности, тем самым расширяя познавательные возможности этих предметных областей.
Помимо Данилевского предпринимаются попытки сравнения Шпенглера с другими представителями русской гуманитарной мысли. В кандидатской диссертации А.А. Лактионова, на основе авторской концепции альтернативного общества, рассматриваются методом сравнительного анализа подобные концепции у Шпенглера и евразийцев1. Под концепциями альтернативного общества Лактионов понимает культурно-исторические и политические концепции, выступающие против универсально-исторического подхода. Иными словами: цивилизационный принцип рассмотрения истории. Шпенглер, по мнению автора, создал проект, альтернативный просвещенческой парадигме понимания и восприятия истории. В просвещенческом проекте термины «культура» и «цивилизация», несмотря на их этимологическое различие, были практически отождествлены, в концепции Шпенглера произошло их разъединение. Свой выбор для сравнительного анализа концепций альтернативного общества Шпенглера и евразийцев Лактионов объясняет их синхронным и диахронным соответствием друг другу.
Сравнительному анализу культурно-исторических идей Шпенглера и русской философии в современной отечественной гуманитарии посвящена докторская диссертация Л.Г. Зимовец «Кризис культуры в культурологических концепциях Н.А. Бердяева и О. Шпенглера»2. Автор говорит о том, что в условиях кризиса культуры вновь возникла необходимость возвращения к его истокам. Н.А. Бердяев и О. Шпенглер относятся к ряду мыслителей, которые первыми в своем творчестве поставили вопрос о кризисе. Творчество обоих философов явилось олицетворением кризисного самосознания России и Европы в XX столетии. По словам Зимовец, «трудно найти фигуры, сопоставимые с ними по масштабу, по глубине проникновения в сущность и природу социокультурного кризиса, по широте охвата материала»3. Сравнительный анализ методологических и мировоззренческих предпосылок философствования Бердяева и Шпенглера свидетельствует не только об их различиях, но и многочисленных совпадениях в мировоззренческих и теоретических подходах.
Из монографических трудов 2000-х гг., в которых затрагивалась культурно-историческая концепция Шпенглера, необходимо отметить монографии двух авторитетных представителей отечественной философии П.П. Гайденко и Г.М. Тавризян (Гайденко, 2006; Тавризян, 2009), которые стали продолжением работ авторов по обозначенной проблематике. Гайденко в монографии, посвящённой пониманию времени в европейской философии, констатирует, что Шпенглер, как представитель философии жизни, противопоставлял время реальное, которое он называл историческим, и время физическое, пространственное, но «поскольку для Шпенглера историческое время есть форма существования культуры» (Гайденко, 2006: 332), то перед исследователем культуры возникает задача выяснения структуры исторического времени. По мнению Гайденко, Шпенглер, сосредоточившись на историческом времени, превращает философию истории не только в центральную область философии, но - в саму философию. Единственная истинно существующая действительность, по мнению Шпенглера, - это действительность культурно-историческая. Гайденко, рассматривая культурно-историческую концепцию Шпенглера через его понимание времени, делает вывод о том, что автор «Заката Европы» довел до логического завершения концепцию исторического релятивизма в понимании и восприятии истории.
Шпенглер, как известно, стоял у истоков философии техники XX столетия. Анализу философии истории Шпенглера через его отношение к проблеме техники посвящена глава в монографии Г.М. Тавризян. Она отмечает как положительные, так и отрицательные черты интеллектуального наследия Шпенглера. К положительным чертам Тавризян относит влияние Шпенглера на формирование концепции локальных культур. К отрицательным чертам - реакционные идеи шпенглеров-ской политической философии, которые, несомненно, повлияли на его философию истории и культурологию. По ее словам: «В целом Шпенглер попытался в своей философии охватить, осмыслить, представить в виде системы всю совокупность явлений в области истории культуры, техники Запада, однако при этом часто не мог преодолеть рамок традиционного культуркритицизма, его предвзятости» (Тавризян, 2009: 26). Что же касается главной, самой общей философской темы «Заката
Европы» – взаимодействия культуры с научно-технической цивилизацией, то она в философии Запада долгое время присутствовала, скорее, в качестве духовного климата западного мира, общей атмосферы века.
В связи с приближением 100-летия со дня выхода первого тома «Заката Европы» (2018) и 120-летия со дня рождения его автора (2020) в мировой гуманитарной мысли активизировался интерес к интеллектуальному наследию Шпенглера. Не прошла мимо этих юбилейных дат и российская гуманитаристика.
Известный историк, философ, социолог Ю.И. Семенов в своей значительной работе, посвященной философии истории, достаточно критично отзывается о культурно-исторической концепции циклов мировой истории Шпенглера (Тавризян, 2013). По классификации подходов к исследованию истории, разработанной Семеновым, концепция Шпенглера принадлежит к плюрально-циклическим концепциям понимания истории. Ее особенностью является то, что Шпенглер довел до логического предела идеи своих предшественников. В данном контексте Семенов сравнивает идеи Шпенглера с Данилевским и рядом его современников, которые развивали похожие взгляды, в частности, с Бердяевым (Семенов, 2013).
Что касается изучения современной российской философией культурно-исторической концепции Шпенглера, то здесь необходимо отметить кандидатскую диссертацию Б.В. Подороги «Понятие гештальта в философии Освальда Шпенглера»1. Автор, на основе опыта философии XX столетия, прошедшей путь от философии жизни до постмодернизма, развивает идею сопряженности философии Шпенглера с современным опытом философствования через понятия «метанарратив» и «гештальт». По мнению Подороги, Шпенглер может считаться предшественником постмодернизма, так как он был одним из первых, кто заговорил о множественности существования культурных феноменов в истории. Однако, несмотря на всю критичность отношения Шпенглера к классическому модерну, он, по мнению автора, остается в его интеллектуальном поле. Подорога также (и не без основания) связывает консервативную политическую онтологию Шпенглера и его философско-исторические, культурологические представления с традицией существующего с эпохи Просвещения в европейской культуре опыта консервативного идеологического метанарратива.
Аналогичного подхода придерживается самарский исследователь И.В. Дёмин. Автор рассматривает философию истории Шпенглера в контексте принципов классического и неклассического историзма. По мнению Дёмина, неклассический историзм проявляет себя как историзм универсальный. Он выражается в последовательном изгнании идеи субстанциональности из философии, заменяя субстанцию «историчностью» (Дёмин, 2015: 38–39). Дёмин связывает утверждение принципа универсальной историчности в европейской культуре с философией жизни, с именами В. Дильтея, Г. Зиммеля, Ф. Ницше и О. Шпенглера. Однако философия истории в философии жизни, будучи порождением классической рациональности, так же как и в классическом историзме, претендовала на поиск неких трансцендентальных оснований, что превращало ее в разновидность классической «спекулятивной» историософии. Автор относит цивилизационные концепции истории О. Шпенглера и А. Тойнби к этому типу философско-исторической рефлексии.
Проблему влияния концепции фаустовской культуры Шпенглера на литературный процесс межвоенного периода рассмотрела литературовед А.А. Степанова (2015). Автор раскрывает способы, формы и проявления художественно-эстетических концептов фаустовской культуры на примере европейской, американской, русско-эмигрантской и советской литературы. Степанова отмечает, что актуальность культурфилософской концепции Шпенглера для изучения литературного процесса того времени заключается в понимании литературы автором «Заката Европы» как сплава художественных и философских принципов. Предтечей такого понимания литературы, по мысли Шпенглера (это подчеркивает и Степанова), был Достоевский. По мнению Степановой, использование концепта «фаустовская культура» применительно к литературному процессу весьма плодотворно, так как позволяет более полно выявить воздействие Шпенглера не только на интеллектуальную ситуацию межвоенного времени, но и в целом на культурное сознание XX столетия.
В связи со столетним юбилеем «заката Европы» в российской гуманитарной мысли вновь возникла тема о месте и роли России в культурно-исторической концепции Шпенглера. Известный культуролог, профессор Н.А. Хренов в своем обширном очерке рассматривает различные аспекты влияния и восприятия культурно-исторической концепции Шпенглера в русской культуре и, наоборот, ее влияние на его мировоззрение (Хренов, 2019). Непреходящей актуальности постановки проблемы «Шпенглер и русская культура и история», согласно Хренову, способствует то, что и к началу XXI столетия вопрос о культурной идентичности России продолжает стоять столь же остро, как и столетие назад. Автор подчеркивает большое влияние идей Шпенглера на русское самосознание прошедшего столетия. Он приводит слова известного философа Б.П. Вышеславцева о том, что основная идея Шпенглера совпадает с главным переживанием русской философии (Хренов, 2019: 134). Таким образом, Шпенглер и русская культура, русская история нашли друг друга. Об этом, по мнению Хренова, свидетельствуют многочисленные перекликающиеся мотивы культурно-исторической концепции и русской культуры, которые автор анализирует с привлечением широкого сравнительного материала (славянофилы, Данилевский, Бердяев, евразийцы, советская и современная российская шпенглериана).
Известный российский философ Л.Е. Гринин предлагает все же не связывать напрямую культурно-исторические концепции Данилевского и Шпенглера, несмотря на их близкое сходство друг с другом (Гринин, 2019). Слишком разные исходные установки, по мнению Гринина, преследовали и тот, и другой. Автор также отмечает: при всех достоинствах концепции Шпенглера, его слабое знание и понимание истории России обусловило в «Закате Европы» ошибочные выводы относительно русской истории (Гринин, 2019: 13). Однако, согласно Гринину, научная интуиция Шпенглера, который, по мнению автора, верно и справедливо оценил последствия таких феноменов, как Первая мировая война, марксизм, социализм, либерализм позволила ему понять, что произошло в России в 1917 г. (Гринин даже расширяет перспективу такого понимания до СССР 1991 г.). Как пишет Гринин, характер и точность оценок Шпенглера относительно истории и культуры России не вызывают сомнений (Гринин, 2019: 15). Таким образом, по мнению Гринина, Шпенглер предсказал теоретическую и практическую несостоятельность марксизма и западного либерализма в истории и культуре России (Гринин, 2019: 20).
Изучение творчества Шпенглера в современной российской гуманитарной мысли насчитывает более тридцати лет и отражает различные стороны интеллектуального наследия немецкого философа. Его культурно-историческая концепция занимает в этом ряду ключевое место. Кризис и распад методологии гуманитарного познания советского марксизма открыл перед исследователями разнообразные теоретико-методологические подходы трактовки основных идей автора «Заката Европы», что и отразилось в российской историографии. Также следует отметить, что изучение взглядов Шпенглера в российской гуманитарии шло в интеллектуальном тренде развития мировой современной шпенглерианы.
Список литературы Культурно-историческая концепция О. Шпенглера в современной российской историографии
- Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. М., 2006. 464 с.
- Гринин Л.Е. Творчество Шпенглера и российская история // История и современность. 2019. № 3. С. 3–23. https://doi.org/10.30884/iis/2019.03.01.
- Губман Б.Л. Смысл истории. Очерки современных западных концепций. М., 1991. 192 с.
- Дёмин И.В. Философия истории в постметафизическом контексте: монография. Самара, 2015. 251 с.
- Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Курс лекций. Вып. 1. Кризис историзма. Томск, 2001. 206 с.
- Патрушев А.И. Миры и мифы Освальда Шпенглера (1880–1936) // Новая и новейшая история. 1996. № 3. С. 122–144.
- Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. Гештальт и действительность. М., 1993. С. 5–122.
- Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса: субстает исторического процесса, конфигурации исторического процесса, движущие силы истории. М., 2013. 615 с.
- Степанова А.А. «Закат Европы» Освальда Шпенглера и литературный процесс 1920–1930-х гг. Поэтология фаустов-ской культуры. СПб., 2015. 496 с.
- Сыров В.Н. Расцвет и закат европейской философии истории (От Бэкона к Шпенглеру): монография. Томск, 1997. 395 с.
- Тавризян Г.М. Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М., 2009. 216 с.
- Терехов О.Э., Терехова О.Н. Диалектика «Заката Европы»: рецепция интеллектуального наследия Освальда Шпенглера в советской гуманитарной мысли // Диалог со временем. 2023. № 82. С. 106–123.
- Хренов Н.А. Незавершенный диалог: отношения России и Запада, какими они казались О. Шпенглеру в начале XX века (к столетию выхода книги О. Шпенглера «Закат Европы») // Философские письма. Русско-европейский диалог. 2019. Т. 2, № 1. С. 131–160.