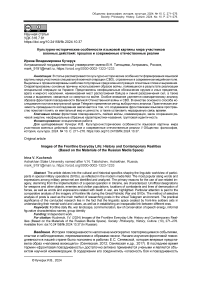Культурно-исторические особенности языковой картины мира участников военных действий: прошлое и современные отечественные реалии
Автор: Кучерук И.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются культурно-исторические особенности формирования языковой картины мира участников специальной военной операции (СВО), отраженные в современном медийном поле. Выделены и проанализированы наиболее популярные среди военнослужащих сленговые слова и выражения. Охарактеризованы основные причины использования образов войны, появившихся в результате реализации специальной операции на Украине. Представлены неофициальные обозначения оружия и иных предметов, врага и мирного населения, наименования мест расположения бойцов и линий разграничения сил, а также слова и выражения, связанные со смертью на войне. Особое внимание уделяется компаративному анализу образов фронтовой повседневности Великой Отечественной войны и СВО. В качестве основного способа исследования постов в виртуальной среде Telegram применялся метод выборочного анализа. Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что создаваемое фронтовиками языковое пространство помогает понять их ментальный мир и ценности, а также установить неразрывную связь времен.
Фронтовая повседневность, пейзаж войны, коммеморация, закон сохранения речевой энергии, неофициальные образные характеристики-названия, групповая идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/149146671
IDR: 149146671 | УДК: 316.7:81 | DOI: 10.24158/fik.2024.10.37
Текст научной статьи Культурно-исторические особенности языковой картины мира участников военных действий: прошлое и современные отечественные реалии
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev, Astrakhan, Russia, ,
быта», совокупность которых и формирует основной смысл этого понятия (Асташов, 2018; Кравчук и др., 2024; Сенявская и др., 2017).
Война, как волшебный кристалл, освещает все уголки человеческой души и проявляет то, что тщательно скрывалось. В связи с тем, что Русь – Россия с момента формирования своей государственности постоянно вела освободительные войны, в менталитете ее граждан сформировалось уважительное отношение к воину и спокойное отношение к смерти. Война издавна считалась тяжелой, кровавой работой, то есть неотъемлемой частью повседневности, как бы странно это не звучало:
«Войны кровавая страда...
Вы положили свои жизни…
Ушли вы в вечность навсегда
Во имя доблестной Отчизны» (О. Грекова-Ищук1)
И сегодня «работать» для бойца означает выполнять боевую задачу или находиться в действии по ее решению. «Арта (артиллерия) отработала по выявленным беспилотниками целям противника», – читаем мы в сводках. Вместе с ним применяется и выражение «топтать войну» – участвовать в боевых действиях. В этом выражении есть место не только динамике, но и намеренно пренебрежительному отношению к войне как трагедии человеческой жизни. Есть мнение, что оно появилось не сегодня, а было введено представителями советской пехоты на заключительном этапе Великой Отечественной войны.
В милитарной лексике новейшего времени прочно укоренились иноязычные заимствования – блокпост, дрон, коптер, патчи, шевроны. Но динамика военных действий проявляется прежде всего через глагольные формы, в которых отражается дух времени. Уничтожение техники противника в ходе специальной военной операции России на Украине (СВО) в медийном пространстве бойцы обозначают эвфемизмами, например, «артиллеристы группировки войск “Север” продолжают избавлять боевиков ВСУ от западных “подарков”» (ЧВК «Вагнер» в Telegram); «операторы FPV любят играть в догонялки», «птички группы “Аида” спецназа “Аида” вышли на охоту» (А. Алаудинов «Ахмат»). «Расчесывать» в сленге бойцов означает «осуществлять плотную огневую проверку местности», «залиться» – «зайти на определенный участок территории», а слово «контролить» применяется в значении «держать под огневым контролем конкретный участок».
Некоторые из используемых сегодня эвфемизмов не просто вошли в лексикон граждан России, но и кардинально изменили в ходе СВО свое первоначальное значение. Примером является термин «прилет», семантика которого связана со взрывами отправленных со стороны ВСУ снарядов. Сегодня применяется не только новая терминология, но и никогда ранее не использовавшееся сочетание латинских букв Z и V с кириллицей, например: «Zа победу» или «Сила V правде», что в совокупности создает новую языковую реальность.
Культурно-исторические особенности образов войны в сознании участников боевых действий . Человек на войне оказывается в условиях «спрессованного» времени, когда часто его жизнь зависит от минут или даже секунд. В этих условиях действует закон сохранения речевой энергии и применяются сокращенные формы слов и лаконичные емкие фразы. При этом каждая война формирует собственный язык, который становится приметой своего времени. Изучение фронтовой повседневности, по мнению авторитетного исследователя Е.С. Сенявской, позволяет глубже понять «человеческий ракурс» новейшей военной истории, включая субъективный фактор, который «в экстремальных условиях войны мог неожиданно перевесить все факторы материальные и оказаться “последней каплей”, склоняющей чашу весов в сторону побед или поражений» (Сенявская и др., 2017: 30).
В этой образной языковой картине мира, наполненного разнообразными и противоречивыми составляющими повседневного бытия человека на войне, особое место занимает неофициальное обозначение оружия и иных предметов, мест расположения бойцов и линий разграничения сил, наименования врага и мирного населения, слова и выражения, связанные со смертью на войне. Отметим, что в этих условиях экстремального существования для создания специфической языковой картины мира применялись и применяются разнообразные способы, в том числе стремление наделить именем, а значит, «душой», предметы военного быта, включая оружие.
Во время Великой Отечественной войны оружие называлось и ассоциировалось, прежде всего, с именем его создателя, и, используя аббревиатуру ППШ, ДШК, ТТ и др., фронтовики знали и, по сути, тиражировали в речи имя изобретателя. Иногда, наряду с аббревиатурой, скрывавшей имена разработчиков, воины давали вооружению дополнительные названия, например, «дегтярь»: «В 1926 году на суд Государственной комиссии были представлены первые экземпляры ручного пулемета, созданного В.А. Дегтяревым. Испытания прошли настолько успешно, что уже в следующем году он был принят на вооружение РККА под названием ДП-27 (Дегтярев пехотный образца 1927 г.). Во фронтовой среде за ним закрепилось название “дегтярь”». Еще один пример – «мосинка» – 7,62-миллиметровая винтовка образца 1891/1930 гг. конструктора Мосина.
Имя изобретателя носило не только вооружение, но различные технические приспособления, востребованные в военное время. При этом использовалось как полное упоминание имени разработчика, например, «клин, или переводная стрелка, Шавгулидзе», разработанный для того, чтобы с его помощью пускать под откос эшелоны фашистов; так и аббревиатура, например, «Бра-мит», то есть глушитель братьев Митиных (Кучерук, 2021: 179).
Специальная военная операция (СВО) вызвала к жизни ранее не применявшиеся в военной среде слова и выражения, которые оказались связаны с новыми видами вооружения. При этом весь массив неофициальных названий можно условно разделить на несколько групп. Например, традиционные названия с трансформировавшимся смыслом и сокращенной формой – броня или броник, то есть бронежилет, сабля – летящий над головой крупный осколок, ночник – прибор ночного видения, птички – дроны или БПЛА (беспилотные летательные аппараты), полячками называют 60-миллиметровые мины польского производства. Вторую группу составляют производные от аббревиатур, например, РПГшка – реактивная штурмовая граната, РПГ7 – мощное безоткатное орудие, РДэшка – рюкзак десантника. От ПТУР (противотанковая управляемая ракета) даже появился глагол «птурить» – ликвидировать вражескую технику с помощью противотанковой управляемой ракеты.
Следующую группу составляют неологизмы с сокращенной формой, но без трансформации исходного значения, например, гумка – гуманитарная помощь, теплак (тепляк) – тепловизор, граник – ручной многозарядный магазинный гранатомет, шальняк – шальные выстрелы и т. д.
Еще одна группа лексем представлена терминами, основанными на созвучии с аббревиатурой наименования предмета, например, СПГ-9 – сапог. Подобные подходы к формированию неофициальных обозначений существовали и ранее, например, в период Великой Отечественной войны. Так, самозарядную винтовку СВТ-40 в советских войсках называли «Светкой», а пистолет-пулемет системы Шпагина или ППШ – «папашей».
Нашлось место в современных реалиях и именам сказочных героев или героев детской литературы, которые применяются для обозначения элементов экипировки или необычного по внешнему виду или техническим характеристикам оружия. Так, «чебурашкой» называют шлем с активными наушниками, Бабой Ягой – вражеский БПЛА или «хохлодрон», а совершенно фантастический танк с наваренной фронтовыми умельцами дополнительной защитой от дронов получил такое же фантастическое название «Царь-мангал», соответственно, козырек или мангал – противодроновый навес, который делается танкистами из подручных материалов.
Традиция использовать неофициальные образные характеристики-названия сформировалась не сегодня. Во время Великой Отечественной войны самое красивое наименование было дано пехоте – «царица полей», хотя в войсках она обозначалась проще – «пехтура». Минометчиков в то время называли «самоварщиками», кавалерию – «копытниками», расчет артиллеристов – со-рокопятчиков ПТО – «прощай, Родина», поскольку из-за слабого бронебойного действия снарядов и тонкой защитной пластины расчетам приходилось подпускать немецкие танки ближе километра, что создавало серьезную опасность для жизни, штрафники именовались «шуриками», а сотрудников комендатур называли «комендачами» (Першанин, 2010: 58, 104, 112).
Однако новое время и новые рода войск вызвали к жизни ранее не применявшиеся обозначения. Например, «архангелы»: «Крылатые архангелы СУ-25 наносят удар по противнику» или название существующей группы в Телеграмм канале «Архангелы Спецназа». Появление подобного названия в советское время было невозможно ввиду господствовавшего в обществе атеистического воспитания. Недавно появившаяся военная специальность «оператор БПЛА» с определенной долей юмора обозначается как представитель «бездушных войск» или дроновод, иногда «глазки», подобная нотка звучит в обозначении минеров, которых бойцы называют «кроты». Присутствуют и просто сокращенные названия – штурмЫ (штурмовики), мангруппа (маневренная группа), арта (ар-тиллерия/стволка), мобики (мобилизованные), «мирняк» (гражданские или нон-комбатанты). Второй смысл приобрел на СВО термин «боевик», который применяется сейчас и для обозначения хорошо подготовленного опытного бойца. Есть современные выражения и для обозначения тех, кто точно знает, как воевать, но никогда не воевал: интернет-воины, диванные войска.
Война проходит на вполне конкретном пространстве, которое, конечно, в сознании участников СВО неоднозначно и разделено на части, каждая со своими границами. В годы Великой Отечественной войны для названия переднего края фронта применялся термин «передок» или передовая. Сегодня активно для обозначения линии боевого соприкосновения (ЛБС) применяется ранее не использовавшийся термин «ленточка», подчеркивающий тонкость и зыбкость этой подвижной границы.
В условиях разграничения на этом пространстве ведения военных действий «своей» и «чужой» территории для обозначения нейтральной полосы появился термин «серянь» – серой зоны боевых действий, которая никому не принадлежит. Интересно, что это, по сути, прозаическое название имеет глубокий культурно-исторический смысл. В условиях военных действий четко проявляются оппозиции «свой» – «чужой» и «белое» – «черное», которые связаны с ценностными ориентациями участников конфликта и пониманием ими собственной роли в нем. В российском сегменте медийного поля СВО упоминаются воинские подразделения с названиями «Мракоборцы» и «Воины света», участники которых, как, впрочем, и все российские воины, считают себя находящимися на «светлой стороне», а своего противника относят к темным силам. Серый цвет, как известно, создается искусственно – путем смешения белого и черного, и в этом смысле серый – это ничейный, что вполне коррелируется с пониманием «серяни» как нейтральной зоны, где нет доминирования белого или черного. Именно по этой причине серый цвет практически не применяется в иконографии. Вместе с тем в устной речи участников СВО фиксируются и отдельные украинизмы, например, контрнаступ, перемога, летаки.
Лесополкой, или зеленкой (термин использовался ранее), называют лесистую местность или полосу соответственно; «железный лес» – это скопление линий электропередач (ЛЭП), «промка» – промышленная зона. «Линзами» бойцы называют перепады высот между посадками, а «колеей» – простреливаемую артиллерией территорию.
На пространстве СВО существуют «располаги», «опорники» как места расположения участников военных действий, а также «открытки», то есть открытые сектора линии боевого сопротивления. Все это в комплексе и формирует пейзаж войны, включающий также и самих ее субъектов.
Война представляет экстремальную ситуацию, в которой происходит разрушение ранее сформированных образов окружающего мира и создание на их основе новых, главным из которых является образ противника. Это сложное образование, включающее рациональную и иррациональную составляющие, в нем есть место внутреннему личностному и внешнему медийному. В образе врага, сформированном на линии боевого соприкосновения СВО, содержатся отдельные этнические отсылы – «мыколы», «тарасы», «хохлы», «чубатые» («чубнявые»), «гребни», «рагули», обозначению принадлежности к конкретным воинским соединениям противника – «айдаровцы», «азовцы» и т. п. Однако присутствует и ассоциативная линия, образы которой отсылают нас к трагическим страницам Великой Отечественной войны – «бандеровцы» («бандерлоги»), «нацики» («нацисты»), «фашисты» («укрофашисты») и даже, как логическое продолжение этого ассоциативного ряда, «немцы». Этот набор сложился неслучайно, многие участники СВО подчеркивают свое родство с героями Великой Отечественной войны и считают себя продолжателями их дела в современных реалиях. Вот что, например, говорил в своем интервью командир танкового взвода «Кинолог»: «Мой прадед воевал дошел до Берлина в Великую Отечественную войну. Я защищаю свою страну, Родину от нацизма, от фашизма» (ЧВК «Вагнер» в Telegram).
Образ войны – это олицетворение горя, страданий, разрухи и смерти. Невозможно обойти вниманием и те образы современности, которые связаны со смертью как неотъемлемой частью любой войны или военной операции, в том числе и на СВО. Для обозначения уничтожения врага часто применяются эвфемизмы со сниженным смыслом, например, «умножить на ноль» или «обнулить», «отправить к Бандере», «прибаранить» или «унасекомить», а также «откалибровать» (от названия ракеты «Калибр») и «отгеранить» (от названия ракеты «Герань»). В обиходе достаточно активно применяется и глагол «денацифицировать», то есть «очистить общество от влияния нацистской идеологии», в котором, с одной стороны, повторяется одна из главных целей СВО, с другой – оформляется мысль о том, что не во всех случаях денацификация как переориентация сознания противника в принципе возможна (Кравчук и др., 2024; Ражина, 2022). Употребление этих терминов свидетельствует о стремлении участников спецоперации психологически дистанцироваться от трагедии войны.
В солдатском сленге нашлось место и языковым единицам сниженной стилистики – их совокупность составляют характеристики западной техники и наименования западных политиков, поддерживающих Украину в продолжающемся с Россией конфликте. Так, хваленые американские танки «Абрамс» (Abrams) бойцы намеренно уменьшительно называют Абрашкой, а для обозначения неумных действий или просто их отсутствия появилось выражение «Шольца валять», проявлять навязчивость без нацеленности на позитивный результат – макронить.
Причины формирования новой языковой реальности участников боевых действий носят комплексный характер. Среди них – сокращение времени на предметную коммуникацию в боевых условиях, поддержание линии преемственности поколений Великая Отечественная – Афганистан – СВО; формирование групповой идентичности участников боевых действий и их сторонников, намеренное снижение образа врага и наконец, применение терминов, которые непонятны противнику.
Выводы . Все социальные потрясения оказывают существенное воздействие на языковую картину мира и формируют новую лексику, которая становится одним из маркеров конкретноисторического периода.
Специальная военная операция (СВО) длится относительно небольшой временной отрезок, однако ее влияние на жизнь, язык и коммуникацию членов российского общества сложно переоценить. Образы повседневного фронтового быта не только составляют языковую картину мира участников СВО, но и поддерживают их групповую идентичность, позволяя провести грань между «своими» и «чужими», очертить круг доверия, что, как справедливо отмечает Л.К. Лазарева, также «обусловливает формирование чувства единения в достижении поставленных задач» (Лазарева, 2023: 44). Интересно то, что благодаря медиапространству и вовлеченному в его существование большому количеству людей эти образы войны усваиваются и тиражируются сугубо гражданским населением, перенимающим военную лексику для демонстрации не только своей осведомленности, но и сопричастности к событиям войны.
Список литературы Культурно-исторические особенности языковой картины мира участников военных действий: прошлое и современные отечественные реалии
- Асташов А.Б. Русская армия и население в Первой мировой войне: фронтовая повседневность и событийность // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2018. № 6-1 (39). С. 84-105. DOI: 10.28995/2073-6355-2018-6-84-105 EDN: YLBJYD
- Кравчук Т.В., Зайцева С.Ю., Сычева Е.О. Особенности словообразования сленга, появившегося в результате специальной военной операции (на материале социальной сети Вконтакте) // Российский лингвистический бюллетень. 2024. № 3 (51). С. 1-4. DOI: 10.18454/RULB.2024.51.14
- Кучерук И.В. Фронтовая повседневность Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Астраханские Петровские чтения. Астрахань, 2021. С. 178-180. EDN: JKMHMU
- Лазарева Л.К. О некоторых семантических и деривационных особенностях русской милитарной лексики новейшего времени // Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания русского и иностранных языков. Донецк, 2023. С. 39-45. EDN: PPJMAQ
- Першанин В. Штрафники, разведчики, пехота. "Окопная правда" Великой Отечественной. М., 2010. 252 с.
- Ражина В.А. Сленговые выражения в военной авиации как особый коммуникативный код // Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 90, № 1. С. 105-108. DOI: 10.18522/2070-1403-2022-90-1-105-108 EDN: QPBNDP
- Сенявская Е.С. Отношение к жизни и смерти участников Первой мировой войны: очерк фронтовой повседневности // Былые годы. 2012. № 3 (25). С. 30-41.
- Сенявская Е.С., Сенявский А.С., Жукова Л.В. Человек и фронтовая повседневность в войнах России ХХ века: очерки по военной антропологии. М., 2017. 421 с. EDN: ZQUEHH