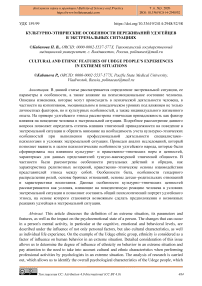Культурно-этнические особенности переживаний удэгейцев в экстремальных ситуациях
Автор: Кабанова Полина Викторовна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Психологические науки
Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается определение экстремальной ситуации, ее параметры и особенности, а также влияние на психоэмоциональное состояние человека. Описаны изменения, которые могут происходить в психической деятельности человека, в частности на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях под влиянием не только личностных факторов, но и культурных особенностей, а также индивидуального жизненного опыта. На примере удэгейского этноса рассмотрена этническая принадлежность как фактор влияния на поведение человека в экстремальной ситуации. Подробное рассмотрение данного вопроса позволяет определить степень влияния этнической принадлежности на поведение в экстремальной ситуации и обратить внимание на необходимость учета культурно-этнических особенностей при выполнении профессиональной деятельности специалистами-психологами в условиях экстремальной ситуации. Проведен анализ исследований, который позволяет выявить в целом психологические особенности удэгейского народа, которые были сформированы под влиянием культурно- и нравственно-этнических норм и ценностей, характерных для данных представителей тунгусо-манчжурской этнической общности...
Экстремальная ситуация, этническая принадлежность, культурные особенности, социально-психологическая адаптация, удэгейцы
Короткий адрес: https://sciup.org/14116016
IDR: 14116016 | УДК: 159.99 | DOI: 10.33619/2414-2948/52/58
Текст научной статьи Культурно-этнические особенности переживаний удэгейцев в экстремальных ситуациях
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 159.99
Под экстремальной ситуацией понимаются крайние проявления сложных ситуаций, которые требуют от человека максимального напряжения психических и физических сил для их разрешения [1]. На характер реагирования при воздействии экстремальной ситуации могут оказывать влияние личностные особенности, жизненный опыт и другие параметры, в частности культурная и этническая принадлежность. Поэтому для повышения эффективности выполнения профессиональной деятельности специалистов–психологов в экстремальных условиях, необходимо производить учет культурно–этнических особенностей участников экстремальной ситуации.
Для экстремальной ситуации характерна интенсивность воздействия на человека, характером воздействия и объективной сложностью самой ситуации и время воздействия. В параметры качественных своеобразий среды входят температура, изменение давления, нехватка кислорода или ограниченность движений. Экстремальная ситуация оказывает влияние на когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы психики человека. В поведенческой сфере могут происходить такие изменения, как потеря контроля, в виде бесцельной активности или наоборот пассивность, агрессивные проявления и возникновение конфликтных ситуаций. В когнитивной сфере могут происходить изменения психических процессов – ощущения, внимания, мышления, памяти и восприятия. В эмоциональной сфере возможны такие проявления как тревога, страх, гнев, агрессия, подавленность, апатия.
Психологами, которым в связи со спецификой профессиональной деятельности часто приходится взаимодействовать с лицами, пострадавшими в чрезвычайной ситуации (ЧС), отмечается важность культурно–этнической принадлежности как регулятора поведения пострадавших и влияющей на особенности работы в конкретной ЧС [2]. Ю. С Шойгу и Л. Г. Пыжьянова подчеркивают роль этнокультурного фактора в прогнозировании рисков возникновения негативных социально–психологических явлений в зоне ЧС [3].
Таким образом, на реакцию в ЧС могут оказывать влияние не только различного рода личностные особенности, но и культурно–этническая принадлежность, требующая учета и внимания при выполнении профессиональной деятельности специалистом в экстремальных ситуациях. В данном исследовании проводится теоретический обзор исследований, посвященных психологическим особенностям удэгейцев, также их религиозным воззрениям, нравственно-этическим принципам, гендерным особенностям для составления предположений об особенностях поведения и переживаний удэгейцев в экстремальной ситуации.
Удэгейцы — народ тунгусо–манчжурской языковой группы. До конца XIX века удэгейцев в качестве самостоятельного этноса не выделяли. Первым, кто обосновал их этническую самостоятельность, был С. Н. Браиловский. Он же первым ввел в употребление и этноним удихэ, который к 30-м гг. ХХ века стал самоназаванием народа [4].
В советские годы в связи с усилением межэтнических контактов, совместным проживанием с русскими и другими народами, а также ростом численности этнически– смешанных браков этнокультурный облик народа претерпел существенные изменения. Но этническое самосознание удэгейцев сохраняется. В условиях демократизации общественной жизни у удэгейцев ярко проявляется стремление к этнической консолидации и борьбе за свои права [5].
Термином «Удэ», в переводе с языков тунгусо–маньчжурских этносов означает «местность, покрытая лесом». По этой причине удэгейцев зачастую в различной литературе называют «лесные люди», что определяет их взаимоотношения с природой. Удэгейцы преимущественно занимаются охотой на пушных и копытных животных, рыболовством и другими традиционными промыслами. Охотничий промысел урегулировался обрядами и обычаями, которые носили морально-нравственный оттенок и приучали охотников относиться к окружающей природе бережно и заботиться о размножении диких животных [6]. Согласно законам охотникам было запрещено убивать больше того количества животных, которое одна семья могла употребит в пищу за ближайшее время. За нарушение данных законов следовало наказание от сил природы и духов леса: человека могли ожидать болезни, потеря удачи в промыслах и даже смерть.
Огромное разнообразие примет и запретов, которые связаны с бытом и различными промыслами, уходят своим происхождением глубоко в историю, и, отражая анимистические взгляды, указывают на неразрывную связь человека с природой, где человек не является отдельным видом, а составляет единое целое вместе с растительным и животным мирами. Сформированная традицией народная этика, признающая единство человека и природы, сопротивлялась повсеместно распространенной практике разрушения экологии. До сих пор некоторые представители аборигенной культуры, имеющиеся экологические проблемы, возникшие в результате загрязнения воды в реках и морях, браконьерства, массовой вырубки тайги, объясняют человеческим безверием и несоблюдением сакральных правил уважительного отношения к природе. А сегодня почитание бога для них есть синоним совести [7].
Таким образом, для религиозных верований характерны культы сил природы, анимизм, шаманизм. Весь окружающий мир для них населен бесчисленным количеством добрых и злых духов [7–8]. Поэтому для удэгейцев характерно возлагать ответственность за успех того или иного дела на божественные силы, соблюдая традиции и обряды, таким образом прося помощи у высших сил.
Ритуальность проявляется и в поминальных обычаях удэгейцев. Специальный термин, обозначающий похороны, существовал у удэгейцев — чалипи ханя, который переводится как «Душа человека». Данный термин связывается с понятием о третьем дне поминок, в этот душу покойного шаман отправлял в загробный мир. Удэгейцы полагали, что душа человека обладает бессмертием и ее движение совершается в трех измерениях — это земля, небо и подземелье. Начало своего пути она берет на небе, затем проживает человеческую жизнь на земле, после чего уходит в мир мертвых и затем возвращается снова на небо, для того чтобы спуститься на землю и дать новое потомство в теле женщины [9].
Таким образом, перемещаясь по трем измерениям, душа поочередно меняла свой облик, возвращаясь то в мужчину, то в женщину и так до бесконечности.
Со временем поминальный цикл похоронных обрядов претерпел некоторые изменения, изначально удэгейцы предавали забвению могилы умерших, но под влиянием русской культуры у них возник культ предков, которые проявлялся в посещении могил и уходе за ними, исполнении поминальных ритуалов, согласно православному календарю. Сегодня по причине отсутствия у тунгусо–маньчжурских народов шаманов, шаманские обряды проводов души умершего в загробный мир не осуществляются. В настоящее время ритуалы погребения и поминания покойных исполняются старейшими представителями семьи, бережно сохраняющими родовые традиции народа [10]. Таким образом, традиционная похоронно-поминальная обрядность не была наделена траурно-скорбным оттенком и не отличалась светскостью, но сохраняла магический смысл, который удэгейцы обозначали выражением: «Так поступали наши предки, и так надо вести себя, чтобы не допустить несчастья».
Что касается семейного уклада и семейных ценностей, то для удэгейцев характерно строгое разделение обязанностей, при котором ответственностью женщины полностью становится забота о быте и воспитание детей, мужчина в свою очередь является основным добытчиком необходимых для жизни семьи ресурсов. Женщина находится в подчинении сначала своей семьи, отца или брата, затем у мужа [11]. Защита ее прав могла быть только в случае жесткого обращения с нею ее мужа, тогда ее семья могла отомстить семье другого рода. В случае смерти мужа женщину выдавали замуж за младшего брата мужа. По традициям женщина не могла сидеть за одним столом с мужчинами, кроме тех, женщин, у которых уже были взрослые дети и в подчинении у них находились младшие по возрасту женщины, например, жены сыновей. Необходимо упомянуть о том, что проявлять свою силу и чувственность для женщины считалось неприличным, культивировалась сдержанность и строгость, что находит свое выражение в особенностях удэгейских традиционных танцев, которые считаются одним из обычаев тунгусо-манчжурских народов [12].
Воспитание детей в семьях удэгейцев до конца ХХ столетия происходило традиционным образом. Представителями старшего поколения дети обучались трудовым навыкам, этнокультурным обычаям и ритуалам, народному искусству. Такой традиционный уклад в сфере образования направлен на стремление сохранить у детей способность к этнической идентичности.
Для удэгейцев характерно выражение уважения и почтительное отношение к людям старшего возраста. До сих пор большая забота проявляется о пожилых и нетрудоспособных людях, а также о сиротах. Последних часто берут на воспитание; старики также живут в семьях своих родственников и находятся на их иждивении. Так как удэгейцам свойственна сильная семейная преемственность, передача опыта из поколения в поколение, а ослушаться старшего могло стоить жизни, то советы и наставления считаются уместными в любых ситуациях [13]. По этой причине в деятельности для удэгейцев характерно следовать авторитету, и роль главенствующего всегда отдается самому уважаемому, опытному и знающему человеку, они хорошо знают способности каждого в роду, поэтому выбор на роль такого лидера совершается без трудностей.
Заключение
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие характеристики удэгейцев, обусловленные их культурными и этническими особенностями – это мифологическое мышление, коллективизм, стремление к поиску авторитета, семейная преемственность, стремление к сохранению этнических ценностей, традиционные гендерные роли, ритуальность, сдержанность и строгость в проявлении эмоций.
Можно предположить, что в случае экстремальной ситуации удэгейцы не будут открыто выражать свои эмоции, проявляя сдержанность. Будут стремиться ориентироваться на инструкции старших по возрасту или имеющих более обширный опыт в поведения в экстремальных ситуациях. Сотрудники МЧС или других служб будут занимать для них авторитетную позицию. Возможно прибегание к ритуальным действиям, особенно в случае ЧС природного характера, что связано с культом сил природы. Кроме этого, в экстремальной ситуации, вероятно, женщины будут занимать более пассивную позицию, и действовать согласно инструкциям мужского пола, так как для удэгейских семей роль главы занимает мужчина. В экстремальной ситуации, вероятно, мужчины будут проявлять инициативность, и стремиться оказать посильную помощь, в связи с исторически сложившейся необходимостью регулировать свои действия для выживания и приспособления.
Список литературы Культурно-этнические особенности переживаний удэгейцев в экстремальных ситуациях
- Аристова Л. В. Психологические подходы к пониманию экстремальной ситуации // Вестник Камчатского государственного технического университета. 2006. №5. С. 167-171.
- Филиппова М. В. Культурная и этническая принадлежность как фактор регуляции поведения пострадавших в чрезвычайных ситуациях // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2015. №5. С. 128-132.
- Шойгу Ю. С., Пыжъянова Л. Г. Прогнозирование и управление социальнопсихологическими рисками во время чрезвычайной ситуации // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2011. №4. С. 76-83.
- Старцев А. Ф. История социально-экономического и культурного развития удэгейцев: (сер. XIX-XX вв.). Владивосток, 2000. 192 с.
- Старцев А. Ф. Исторические и современные реалии социально-экономического развития аборигенов Приморского края и их будущее // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2012. №1 (20). С. 92-99.
- Отаина Г. А. Воспитание экологического сознания у народов Дальнего Востока // Культура Дальнего Востока XIX-XX вв. 1992. С. 103-112.
- Березницкий С. В. Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов амуросахалинского региона. Владивосток: Дальнаука, 2003. 486 с.
- Звиденная О. О., Новикова Н. И. Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 года). М., 2010.
- Фадеева Е. В. Современные социально-демографические процессы у эвенков Хабаровского края // Этнос и культура в условиях общественных трансформаций. 2004. С. 56-69.
- Суляндзига Р. В., Кудряшова Д. А., Суляндзига П. В. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Обзор современного положения. М., 2003. 142 с.
- Скоринов С. Н. Семейно-бытовая обрядность 30-80-х годов XX века коренных малочисленных этносов юга Дальнего Востока России // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2014. Т. 2. №2. С. 64-70.
- Канчуга Ю. В. Особенности пластики в обрядовых праздниках удэгейцев. Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Хабаровск. 2014. С 115-119.
- Позина Н. С. Трансляция национальных форм культуры удэгейцев в литературном творчестве (на материале трилогии А. А. Канчуги) // Власть и управление на Востоке России. 2008. №2.