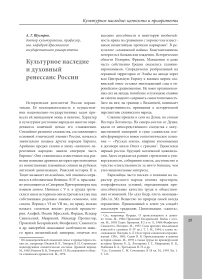Культурное наследие и духовный ренессанс России
Автор: Шустров Андрей Григорьевич
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Культурное наследие: ценности и приоритеты
Статья в выпуске: 1, 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170174066
IDR: 170174066
Текст статьи Культурное наследие и духовный ренессанс России
Историческое долголетие России поразительно. Её последовательность в осуществлении национально-государственных задач принесла ей невиданную мощь и величие. Характер и культурное достояние народа во многом определяются конечной целью его становления. Стихийное развитие славянства, составляющего основной этнический элемент России, началось значительно позднее других народов Европы. Арийские предки славян в эпоху «великого переселения народов» заняли северную часть Европы1. Они становились известными под разными именами древним авторам при появлении их воинственных племенных союзов на рубежах античной цивилизации. Римский историк II в. Тацит называет их венедами, чей этноним сохранился в обозначении Венеции. В IV в. праславя-не упоминаются в Северном Причерноморье под именем антов. Начиная с V в. в трудах греческих и иных историков они встречаются уже под собственным родовым именем склавенов, или славян. Период с VI по VII вв., по праву, можно назвать «золотым веком» русской предыстории. Агафий, Иоанн Эфесский, Иордан, Исидор Севильский, Маврикий, Менандр Протиктор, Прокопий Кесарийский, Феофилакт, Симокатта и др. наперебой описывают особенности нового врага византийской империи, отмечая его высокие способности и некоторую необычайность нрава по сравнению с хорошо уже известными византийцам прочими варварами2. В результате «славянской войны» Константинополь потерял все балканские владения. Исторические области Иллирии, Фракии, Македонии и даже часть собственно Греции оказались славянизированными. Спорадически разбросанный на огромной территории от Эльбы на западе через всю Центральную Европу к южным морям славянский этнос оставил неизгладимый след в европейском средневековье. Не имея организованных сил на западе, полабские и лужицкие славяне не смогли надолго сохранить самостоятельность. Зато на юге, на границе с Византией, возникает государственность, приведшая к исторической перспективе славянского народа.
Славяне пришли и сели на Дунае, по словам Нестора Летописца. На северо-восток от Дуная, вдали от непосредственного соседства с могущественной империей в гуще славянских племён формируется новое геополитическое сознание — «Русская земля», впервые упоминаемая в договоре князя Олега с греками3. Удивителен первый росток будущей вселенской цивилизации. Здесь отражается раннее стремление к универсальности, собиранию земель, достоинство и чувство ответственности за нечто большее, чем узко национальные интересы.
Евразийцы часто писали о влиянии на характер русского народа земных просторов, географических условий, определяющих приспособительные качества труда и общественных отношений. Но «дух бодр, плоть немощна» (Мк.14, 38). Вещество по природе своей всегда ограничено. Прикованный к земле ум создаёт локальную традицию. Цивилизации «сапога», как назывались в русских летописях гражданские народы, были неподвластны русскому оружию и не пускали в свою жизнь.
С этого момента, можно сказать, рождается новая русская быль, как впечатление Византии, как глубокий духовный след её жизни4. Георгий
Флоровский писал, что только на путях византийской мысли Россия добивалась значительных культурно-исторических результатов5. Этой первой любви русские люди не изменяли на протяжении многих веков, ею наполнялись, ею побеждали недругов и достигали величия. Любовь к Богу и человеку составляет суть христианской веры. В ней заключается главная преобразующая сила. Современное научное понятие «культура» проистекает от всеохватывающего христианского чувства и включает в себя множество толкований. Наиболее известное из них — «обработка, возделывание земли». За подобной отвлечённостью скрывается вовсе не род хозяйственной деятельности, а индивидуальное призвание человека стать выше исключительно телесных и вещественных интересов.
Начиная с первых шагов своего исторического цивилизованного развития, общественное сознание России, её литература, философия, искусство, опирались на святоотеческую традицию . Святой отец представляет собой явление христианской жизни. Так назывался подвижник, отличающийся глубиной духовного созерцания, праведностью и литературным талантом. На своём опыте он практически раскрывал незримые истины веры. Этот опыт автор запечатлевал в тексте, становящемся практическим пособием духовного созревания. Благодать евангельского учения всегда действует через внутренний мир самовоспитания. Святоотеческая традиция , получившая особое развитие в Византии, перешла на Русь как главное её богатство и культурное наследие.
С позиции восточно-христианского учения, святоотеческой книжности, культура не представляет собой вида и форм общественной деятельности, а, напротив, относится к сугубо индивидуальной работе человека, ищущего встречи с Богом. Христианский Бог — не Бог рода, а личностный . По христианскому вероучению, боговоплощение соединило полноту божественной и человеческой природы. К главному событию
Тальберг Н. Д. Святая Русь. СПб., 1992; Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре // Первый век христианства на Руси. М., 1995; Федоров Г. П. Лицо России. Париж, 1988 и др.
персональной жизни необходимо готовиться, обрабатывая «землю своего сердца». Один из главных христианских императивов можно выразить словами: «Вы не те, кем должны быть». После этого признания консервативная языческая традиция России уходит в прошлое. Впереди — другая цель и движение к намеченному идеалу.
Термин «культура» очень часто встречается в научной и публицистической литературе. Оттенки его смыслов огромны. Но с полной уверенностью можно говорить об их христианском религиозно-философском истоке. Греческие отцы Церкви писали о культуре как творческой энергии , идущей от Бога к человеку, а от него — ко всему сущему, преображающей мир и наполняющей его новыми духовными смыслами6.
Несовершенство личности предполагает её постоянное изменение. Дыхание Византии принесло на Русь высочайший, богоподобный дар свободы. Общественный идеал язычества имел внешнюю константу, постоянство которой зависело от успехов в межэтнических отношениях, побед или поражений. Глядя на этническую историю, видно, что его энергии хватало ненадолго. Вера в христианского Бога формировала противоположную одностороннему и плоскостному языческому восприятию жизни глубокую, эшелонированную культурную среду с этническим институтом — Церковью. Либеральные отношения между Церковью и родовым строем стали основой государства и формой цивилизационной жизни. Появился новый объективный критерий всеобщего развития и роста. Зарождение в Киевской Руси социальных институтов семьи, хозяйства, школы, собственности, науки, искусства и т. д. стало прямым следствием воздействия христианской идеи на общество. Индивидуальная устремлённость к Богу разрыхлила социальный монолит и приобщила к творческой энергии личности отдельные части общественной природы. Индивидуальность оказалась фактором внутреннего творчества и внешнего производственного роста. Те формы исторического существования, которые выработала античность, стали доступны России через веру, в христианском переложении. Без таковой они теряют творческий характер и, вместо поддержки, сокрушают человека. То, что было принесено с верой, только с верой и может существовать.
Церковь как мистический союз человека и Бога поразил своей нескончаемой новизной языческое сознание. Исторически имея в Ней главную цель внутреннего бытия, русский человек сохранял свою природную цивилизацию в противостоянии ордам азиатских кочевников. И, напротив, вне церковных ориентиров его культурные одежды, мгновенно ветшают и под гнётом других цивилизаций не могут найти себе поддержки ни в идеях, ни в материальных средствах. Великий учитель христианского Востока Иоанн Лествичник писал, что интерес к деньгам есть признак старости, а человеческая изобретательность в этих условиях ведёт ко злу.
Равноапостольный князь Владимир насадил Церковь среди однородного славянского этноса, в отличие от Византии, где динамика общественного развития проходила по оси «Церковь — гражданское общество», состоящего из множества эллинизированных народов Востока. В России христианская вера первоначально противостояла родовому опыту восточных славян. Позже, государственно объединяя уже и другие народные традиции, она приобщала их к своим базовым духовным ценностям через национально-культурные каналы русского народа. В свою очередь, последний термин обозначал не собственно этническую единицу, а религиозно преобразованную языковокультурную среду, вселенское начало которой было притягательной перспективой для национальных окраин.
Русская национальная идея смолоду соединяла себя с жизнью Церкви. С течением времени родовые отношения исчезали, уступая место новым. Но вместе с расширением христианской цивилизации модифицируется и язычество, которое, по словам Апостола Павла, есть «почитание твари вместо Творца» (Рим. 1, 25). Сами культурные формы и символы становятся нередко объектом почитания как признак самообожествления человека. С этим попятным движением духа вселенская религия ведёт непрерывную борьбу. «Не мир принёс Я вам, а меч» — говорится в Евангелии (Мф. 10, 34). Историческая Церковь всегда воинствующая. Главным её противником является зло, которое понимается святыми отцами как духовная бесплотность человеческой деятельности в результате неправильно выбранного пути.
По словам христианских авторов, зло активизируется там, где действует благодать. Не знавшие альтернативы древнеязыческие предания были единственным законом в доисторическом строе России. Наследие христианской цивилизации всесторонне отразилось на всём укладе Руси, породив целую систему культурных смыслов и значений, пробуждающих движение к духовному ядру. На «дальних подступах» к церковной ограде формировалась культура религиозного нейтралитета, вовлечённая в соборное творчество. Околохрамовая культура уже «дышала» его содержанием. Максимально заряженные религиозной идеей отшельники уходили в скиты. Возвращение монашества к участию в делах мира составляет характерную черту византийского типа цивилизации. В этом отношении традиционная русская культура является прямым её продолжением.
Обработанное христианским духом пространство было уже не только «Русской землёй», но и Родиной, миром, где появлялось на свет церковное сознание . Внутри него существовал истинный критерий жизни, неизбежно вызывающий критику несовершенства, заканчивающуюся кризисом закостенелости. Вне Родины русский человек не мог, и даже не начинал жить.
Вера не только объединяет людей, но и разделяет их, делая это в двух направлениях. В одном из них человек осознаёт неповторимость индивидуального пути к Богу, свободу и ответственность перед собой, связанные со страхом предать себя и всю свою жизнь. Творческое одиночество особенно остро проявляется в сакральном пространстве. Вне его царят родовые интересы неудовлетворённой чувственности. Как писали святые отцы, желание воспроизвести себя в собственной природе есть у несовершенного целью человека. Несостоятельность личных планов в мире отвлечённых знаков и вещей очевидна. «Мир Мой даю вам» — читаем мы у евангелиста Иоанна (Ин. 14, 27). Христианская вера всегда «взрывает» одностороннюю гармонию социальных форм, обособляя личность от родового бытия и формируя новую, уже персональную область смыслов. Дистанция между культурой, преобразующей духовную сущность человека, и системой отвлечённых от этой цели знаков, в христианской цивилизации определяется индивидуальным выбором. Она сохраняется на протяжении всей истории, как главная её альтернатива. Макарий Египетский отмечал, что если бы Бог захотел, то вложил бы в уста апостолов неопровержимую силу проповеди, способной покорить весь мир целиком. Тогда бы перестала существовать свобода человека, в том числе и свобода на зло. Христианский идеал во времени и далёк, и близок, но история не знает совершенства, а только живую волю и энергию действия.
Нескончаемая творческая работа духа на протяжении веков делала Россию постоянно молодой. Никакой другой культурный образец, кроме византийского православия, не оставил в ней неизгладимого следа. Даже увлечение Европой объясняется ошибочным стремлением России найти в ней привычную для себя авторитетную опору после падения Константинополя. Обретая на Западе новшества материальной цивилизации, душа русская оставалась неудовлетворённой и встревоженной этой встречей с чуждой культурой7.
О России сказано очень много слов и её доброжелателями, и её недругами. Многие видели в ней что-то необычайное, невыразимую никакими средствами тайну, едва приоткрывавшуюся во внешних культурных одеждах. Природа духа недосказана. Она придаёт человеку творческую энергию, результаты которой не всегда заметны. Стремиться стать лучше, чем ты есть, и вовлекать, словно воронка, поверхностные слои жизни в духовную глубину личности, являются отличительными чертами русского народа. Насколько важны развитые культурные формы как показатели сильной общественной природы, раскрыл наш XX в. Традиционные стереотипы России по инерции сохраняли её могучее историческое тело. Но они уже не служили проводниками создавшего их индивидуального движения. Лишённое источника внутреннего развития тоталитарное общество стало распадаться. Ослабленная церковными гонениями традиция не смогла этому воспрепятствовать. Из обломков советской империи вышел новый охотник и собиратель, добытчик денег и коллекционер чувственных удовольствий. Неожиданно раскрывшаяся социальная дикость протестует против всех прежних ограничений и этических табу. Распущенное родовое сознание также противостоит и классическим образцам культуры, требующим определённой дисциплины. Пробудившийся частный интерес, не удержанный ни идеей, ни производственными знаниями, когда-то воспитанными христианской цивилизацией, эгоистичен. Исторически он несостоятелен из-за ослабленного чувства социального взаимодействия, питающегося религиозной совестью.
Россия неожиданно приблизилась к катастрофе, которую внешние культурные способы представить бессильны. Общественный ренессанс России напрямую зависит от возрождения в человеке чувства святости. На фундаменте авторства собственной жизни восстанавливаются жизнеспособные оригинальные социальные институты, преобразующие безымянную слитость толпы. Колокол преобразований должен пробудить совесть человека и поддержанную обществом его творческую инициативу. Пока истинное культурное наследие России находится под спудом разного рода экономических заимствований и чужих рецептов улучшения жизни нашей страны, она неизменно теряет свой удельный вес в мировой цивилизации и становится объектом уже потенциального дележа своих природных богатств.
Хочется закончить мысль словами Ф. М. Достоевского: «Смирись, гордый человек», перестань строить планы весёлой, беспроблемной жизни, возьмись за серьёзную работу, пробуди «любовь к отеческим гробам, родному пепелищу» и обретёшь смысл бытия, свой дом, свою страну и собственное достоинство. Не относись к христианству как к обветшалой идее на фоне научно-технического прогресса. Православные ценности не имеют ничего общего со временем. Они находятся вне истории и никогда не стареют. К их реализации человечество никогда ещё и не приступало в полном объёме. Это всегда было уделом отдельных личностей. И, может быть, именно сейчас нам, живущим в XXI в., ощущение вечности более необходимо, чем прежде, из-за неожиданно раскрывшейся картины возможного конца истории и природной несостоятельности человека.
Список литературы Культурное наследие и духовный ренессанс России
- Бердяев Н. А. Русская идея. Париж, 1946.
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. Древний период. М., 1965.
- Ильин И. А. Основы христианской культуры//Одинокий художник. М., 1993.
- Иордан. О происхождении и деяниях готов. М., 1960
- Прокопий Кесарийский. Война с готами. М., 1959;
- Тацит. Германия. В 2-х тт. Л., 1969;
- Феофилакт Симокатта. История. М., 1957;
- Свод древних письменных известий о славянах (¡-IV вв.). Т. I. М., 1994; а также исследования: Погодин А. Л. Из истории славянских передвижений. СПб., 1901;
- Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979; а также труды по древнерусской истории Грекова Б. Д., Литаврина Г. Г., Мавродина В. В., Рыбакова Б. А., Третьякова П. Н. и др.