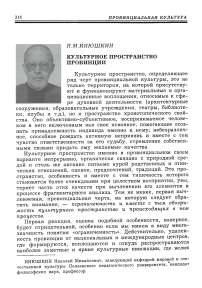Культурное пространство провинции
Автор: Инюшкин Николай Михайлович
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Провинциальная культура
Статья в выпуске: 3 (44), 2003 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется понятие «культурное пространство провинции», а также особенности и механизмы формирования имиджа провинциальной культуры как локальной территории.
Короткий адрес: https://sciup.org/147222080
IDR: 147222080
Текст научной статьи Культурное пространство провинции
Культурное пространство, определяющее ряд черт провинциальной культуры, это не только территория, на которой присутствуют и функционируют материальные и организационные воплощения, относимые к сфере духовной деятельности (архитектурные сооружения, образовательные учреждения, театры, библиотеки, клубы и т.д.), но и пространство хронотопического свойства. Оно объективно-субъективное, воспринимаемое человеком в него включенным как свое исконное, помогающее осознать принадлежность индивида именно к нему; небезразличное, способное рождать активную неприязнь и вместе с тем чувство ответственности за его судьбу, стремление собственными силами придать ему желаемые качества.
Культурное пространство именно в провинциальном своем варианте непрерывно, органически связано с природной средой и столь же активно питаемо аурой родственных и этнических отношений, оценок, предпочтений, традиций. Это пространство, особенность и вместе с тем типичность которого становятся более очевидными при целостном восприятии, увы, теряет часть этих качеств при вычленении его элементов в процессе фрагментарного анализа. Тем не менее, первая вычленяемая, провинциальная черта, на которую следует обратить внимание, — ограниченность и вместе с тем обозримость культурного пространства и происходящих в нем прогрессов.
Первая реакция, оценка подобной особенности, наверное, будет отрицательной, особенно если мы имеем в виду многозначность понятия «ограниченность». Действительно, удаленность провинции от национальных и международных центров, где формируются, воплощаются и откуда распространяются наиболее заметные и яркие культурные инновации, где велик
ИНЮШКИН Николай Михайлович, заведующий кафедрой мировой и отечественной культуры Пензенского педагогического университета, кандидат философских наук, профессор.
объем и высок уровень концентрации духовных ценностей, очевидна. Поэтическая строка «что поздно в Лондоне, то рано для Москвы» — формула, применимая и поныне.
Эффекты трансляции культурных образцов в далекую провинцию подчас смешны, анекдотичны, порой грустны, а иногда поучительно мудры. Важно заметить, что при самых современных информационных технологиях адекватность воспроизведения «горячих» культурных инноваций, а главное их восприятия, вызывает сомнения, так как кроме формы и скорости передачи информации извне есть еще и ментально-психологические особенности самих провинциалов, которые исторически складывались и накапливались под влиянием специфики культурного пространства.
Ограниченность и обозримость — не всегда знак ущербности, неполноценности, недоразвитости. Это просто иное, особое качество, несущее в себе как «плюсы», так и «минусы» для субъекта провинциальной культуры. Является ли ограниченность в данном случае прямо производной от границ в административно-территориальном смысле? Конечно, в буквальном смысле между соседними провинциями, губерниями, областями, республиками в новой истории России сторожевых постов никогда не стояло, и социально-культурная диффузия между ними имела место постоянно.
И все же не стоит сбрасывать со счетов немаловажный момент, связанный с наличием у любой административно-территориальной единицы своего регионального центра и малых пунктов притяжения в уездах, районах, волостях и т.д. Чем продолжительнее такая функция у каждого из них, тем устойчивее и разностороннее, разнохарактернее связи, жизненно важные, повседневные, касающиеся многих внутренних провинциальных территорий. Местные центры и «центрики», являясь ретрансляторами для более значимых властно-административных структур, в известной мере представляя их, опосредованно, но вполне реально формируют и ограничивают культурное пространство. Например, в условиях, когда уровень затрат на развитие учебных заведений недостаточен для их открытия во второстепенных населенных пунктах, провинциальный административный центр становится и центром образовательным. При наличии определенной организационной отработанности средние специальные и высшие учебные заведения Пензенского края, расположенные в его центре, ограничивали отток молодежи в другие регионы, обеспечивая свои кадровые потребности. Части провинции в этом случае оказываются более связанными друг с другом, чем с другими элементами национальной структуры. Эта система являет собой «противоречивую гармонию». Провинциальный центр притягивая вытягивает из подведомственной ему территории то, чего не хватает на всех. Когда же происходили волюнтаристские переделы административных границ, изменение привычных статусов городов, имели место последствия, отрицательные не только для экс-губернских центров.
Первый советский нарком просвещения А.В.Луначарский, посетивший Пензу в 1929 г., стал свидетелем именно такого явления. «В Пензе много старых губернского типа зданий: она типична именно как губернский город, имеющий, на первый взгляд, своеобразно солидный, почти комфортабельный характер. Между тем, Пензенский округ — один из самых бедных, если не самый бедный в РСФСР. В бытность свою губернией он был даже еще темнее, ибо, пожалуй, самая глухая часть отрезана теперь и превращена в самостоятельный Мордовский округ с центром в Саранске»1.
Далее Луначарский отмечал, что губернский центр Пенза безжалостно впитывала в себя все, что могла впитать из губернии. Она оставила в высшей степени темными свои уезды. Это сказывается еще и сейчас. Пенза имела при 90 тыс. жителей семь техникумов. Ее главнейшие школы расположены в удобных зданиях. Она имеет громадный театр. За исключением Большого и Экспериментального театра, по его мнению, Москва не знала ни одной такой большой театральной залы2. Тем не менее нарком подчеркивал глубокую ошибку при районировании Средневолжской области, которую необходимо исправить.
С восстановлением административного статуса Пензы в конце 30-х гг. XX в. на территории, определенной для подчиненной ей области, вновь заработала система, которая бурно развиваясь в послевоенные годы, сформировала в большей степени самодостаточное культурное пространство. Это, конечно, не означало, что в культурную сферу Пензенской области не вливались квалифицированные специалисты извне, кстати, многие из них возвращались после учебы в столичных вузах в родные края. Подготовленные в центре провинциального региона инженеры и педагоги, библиотекари и художники, строители и агрономы, клубные работники и музыканты, медсестры и зоотехники образовали основной человеческий массив доморощенной автохтонной культурной среды.
Эту ситуацию можно сравнить с сегодняшним днем. В начале XXI в. появились новые грани в культурно-образователь- ной системе, позволяющие безвыездно заполнять почти весь спектр людьми, требуемых для нормальной жизни провинции, знающих свое дело. Все это происходит на фоне статистически доминирующего сокращения возможностей для молодых поколений местных жителей покинуть областные границы с самообразовательными целями.
Радикально ломая эффекты пространственной удаленности жителей провинциальных территорий от национальных и мировых центров, современные средства информатизации, которые наращивают свое присутствие в повседневности, отнюдь не устраняют эффекта ограниченности культурной среды. При всем техническом процессе не теряют — и, трудно сказать, потеряют ли — свою константность факторы, которые с первых шагов собственно провинциального жизнеустройства играли принципиальную роль.
Малолетний житель провинции получает извне впечатления о ее пространстве, масштабе с первых сознательных шагов. Конечно, масштабы не одинаковы в сельской глубинке, фермерской усадьбе, уездном, районном городке и губернском, областном центре. И все же во всех упомянутых случаях параметры эти при своем различии соразмерны человеку, не подавляют его, они позволяют воспринять культурное пространство как целое, образуемое видимыми, обозримыми элементами.
В контексте наших рассуждений следует обратить внимание на так называемый культурный импринтинг, имея в виду особую, очень раннюю, но глубоко воздействующую, остающуюся весьма надолго, реакцию запечатления. Запечатленное оказывается масштабом, мерилом, архитипическим зовом к родному, исконному, своему. Наглядный художественный пример тому стихотворение М.Ю.Лермонтова «1 января». Поэт уже видел московский «Кремль в час утра золотой», уже полюбил «цепи синих гор» Кавказа, уже жил в столичном Петербурге, «пестрою толпою окружен», уже очами Демона взирал на «хоры стройные светил». Но «в минуту жизни трудную» «вольной, вольной птицей» все же летит он памятью своей к тому первозапечатленному тарханскому пространству.
Эффект импринтинга может вызвать неоднозначные реакции. В интересующем нас плане возможно, что небогатая разнообразием, обозримая культурная среда, первое посещение единственного местного театра, музея, самодеятельного концерта, а затем снова встречи с эстетическими феноменами, одного масштаба порождают устойчивое представление о том, что именно это и есть культура.
Развитие такого стартового первозапечатленного мнения может быть различным. Чаще всего, не имея возможности сравнения с иными масштабами, формами, качеством культурных воплощений в оригинале, провинциал пребывает всю свою жизнь в плену самодовольного мнения. Отсюда душевная лень, нежелание увидеть и принять на себя труд понять иное, находящееся за привычными границами, неспособность увидеть себя со стороны.
Заметим, что подобные самоощущения присущи порой и представителям дипломированной провинциальной общественности. Лишенные волею судеб практического познания культурных уровней, которые не могут быть реализованы в региональных границах, они не только несут в себе убежденность в достаточности местного, а значит и своего культурного потенциала, но и тиражируют ее в новых поколениях обладателей дипломов местного производства.
Однако отмеченное порождение нерефлексирующей самодостаточности — не единственный отклик на ограниченность и обозримость культурного пространства провинции. В спектре восприятия и оценок данных характеристик имеет место подчеркнуто негативная реакция провинциала, будто вдруг увидевшего неполноценность и убогость окружающей среды, где все только плохо, неприемлемо и откуда по возможности следует сбежать в иные, лучшие края. Было, есть до сей поры и другое — трезвое, критичное, видящее диалектику объективных противоречий, но конструктивное, продуктивное по сути, восприятие.
При таком отношении можно найти реализацию открытости вовнутрь, свойственную типологически провинциальному бытию. В данном случае местные масштабы перестают быть синонимом ограниченности в отрицательном смысле. Они позволяют фокусировать внимание на неувиденном беглым взглядом, подтверждая поэтическую формулу о способности... в одном мгновеньи видеть вечность, / Огромный мир — в зерне песка, / В единой горсти — бесконечность / И небо в чашечке цветка.
Так, очевидно, навеянное пензенскими краями и сознательно подчеркнутое М.Ю.Лермонтовым не всем свойственное умение увидеть и воспринять объекты этого внешнего неяркого пространства.
Как зорок эстетически глаз поэта, первовпечатленного тар-ханской средой! Академик-искусствовед ИТрабарь не зря писал о том, что избы, покрытые резьбой, невелики по размеру, но могут соперничать по своему высокому мастерству с дворцами, построенными великими мастерами.
Умение увидеть в культурном пространстве провинции нечто ценное, только ей присущее, вовсе не означает зашоренного квасного патриотизма аборигена, дальше губернского или областного центра не выезжавшего. И в строке пензенского поэта о своем крае: «Ты и есть моя Россия» — отнюдь не стремление обеднить, ограничить образ Родины. Ее нравственный и конструктивный смысл заключается в стремлении разглядеть, обнаружить, прочувствовать, пережить в родном, исконном пространстве такое, чем может гордиться вся страна. Если последние фразы звучат несколько патетично, то их можно перевести на более прагматичный язык науки. Феномен краеведения в данном контексте может быть трактован как сознательная попытка раскрытия особенного содержания ограниченного местного пространства.
Еще не было такого раздела исторической науки, а участники русской колонизации края уже пытались выделить, приподнять, акцентировать, сформировать некие знаковые места. Осознанно или подсознательно, но внутри земель, судьбою отряженных как местожительство многих поколений, формировался определенный символический ресурс. Из поколения в поколение передавались, становясь частью природной памяти, предания об особо чтимых иконах, явление которых произошло в определенное время и в определенном месте.
Автор книги «Пензенская губерния» М.Ф.Кузьмин в конце XIX в. отмечал, что в Казанской церкви Нижне-Ломовского монастыря находится чудотворная икона Божией Матери, украшенная золотою ризою с драгоценными каменьями. По грамоте императора Петра Великого явленный образ Казанской Божией Матери стал именоваться чудотворным. По монастырской летописи числится 109 чудес, происшедших от иконы до нынешнего столетия. Икону часто берут из монастыря в разные города и села: она чествуется в Пензенской, Саратовской и Тамбовской губерниях.
Конструктивный глубинный смысл развития символического ресурса края, имеющего определенные границы, но не имеющего всем очевидных общепринятых достоинств, несомненен. При его формировании работают по крайней мере два момента, тезиса (стимула). Первый: у нас есть то, чего нет у других, у нас есть нечто замечательное. Мы — особенные, достойные внимания и уважения. Второй: мы не хуже других, уже имеющих нечто замечательное. У нас есть основания быть на уровне российском, европейском и т.д.
Даже если вдруг эти устремления не срабатывают, символический ресурс в ограниченном культурном пространстве выполняет необходимую для жителей провинции роль. Это самоидентификация, т.е. объединение субъектом себя с другими индивидами на основании установившейся эмоциональной связи, а также включение в свой внутренний мир и принятие как собственных норм, ценностей, образцов. Ее процессу, продуктивности помогает придание объектам в культурном пространстве провинции личностных смыслов, ценностей, осознание собственной активной роли в умножении этих ценностей. Отмеченное вовсе не означает идеализации культурных горизонтов провинции.
М.Е.Салтыков-Щедрин, который очень многое почерпнул для своих произведений именно в пензенской действительности, понятием «ограниченность» оперирует весьма часто и далеко не с позитивной оценкой. Его занимают те проявления ограниченности, что проецируются на сознание провинциала, его отношение к жизни, к иному, не провинциальному, к собственной позиции в пределах губернского мирка: «Отчего в самом деле, — спрашивает Щедрин, — несмотря на все усовершенствования и преуспеяния, в провинции все продолжает царствовать тот же тонкий запах скуки, против которого мы так безнадежно боремся с незапамятных времен? Отчего провинция не перестает быть центром переливания из пустого в порожнее, бездну которого мы тщетно пытаемся наполнить? Откуда это самошпионство, самоподслушивание, самонаушни-чество, эти вечно гноящиеся три язвы, которые неустанно точат провинциала и отравляют каждую минуту его незатейливого существования?»3.
Проницательный наблюдатель провинциальной жизни отмечает, что в атмосфере скуки, которая губит многое в провинции, повинны в большой мере сами жители. Щедрин утверждает, что убежденные люди провинции с трудом выдерживают призыв к делу, мысль останавливается перед своими естественными выводами и оттого получает характер прискорбной незаконченности. Далее бывший пензенский чиновник подсказывает нам что на уровне сознания провинциала питает такие прискорбные качества. Он пишет, что это последствие закоренелой привычки вращаться в заколдованном круге, замысловатая алгебраическая формула без малейших приложений и выводов.
Можно ли избавиться от «самодовольной», «неисправимой ограниченности»? Где выход из мира скуки, отсутствия высших умственных интересов? «Как ни стара истина, что только в больших центрах человек может смело мыслить и свободно дышать, но в провинции она дает себя чувствовать с поразительной наглядностью и потому никогда не утрачивает характера насущной новизны»4.
Эти слова были написаны Щедриным в Рязани за три месяца до окончательного переезда в Петербург. Вовсе не рискуя соревноваться с сатириком в ироничных комментариях, вспомним все же, что в «Губернских очерках» восклицание «Очаровательный Петербург! Душка Петербург!» раздается в городе, из которого «дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец мира»5 Это к тому, что все провинциалы, как ни стремись подобно чеховским героям «в Москву, в Москву», покинуть своего ограниченного пространства не могли и не могут. Поэтому, принимая справедливые и поныне замечания мастера сатирического слова, стараясь по мере возможности на них конструктивно реагировать, носители провинциальной культуры вынуждены искать пути оптимального приспособления к среде своего обитания.
Список литературы Культурное пространство провинции
- Луначарский А.В. Месяц по Сибири и Среднему Поволжью. Л., 1929. С. 132.
- Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 7. М., 1969. С. 198.