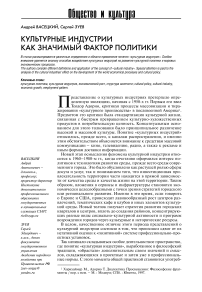Культурные индустрии как значимый фактор политики
Автор: Васецкий Андрей Анатольевич, Зуев Сергей Эдуардович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество и культура
Статья в выпуске: 4, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные определения и области применения понятия «культурная индустрия». Особое внимание уделяется анализу способов воздействия культурных индустрий на развитие культурной политики и мировых экономических процессов.
Культурная политика, культурная индустрия, экономический рост, структура занятости
Короткий адрес: https://sciup.org/170165322
IDR: 170165322
Текст научной статьи Культурные индустрии как значимый фактор политики
П редставление о культурных индустриях претерпело определенную эволюцию, начиная с 1950-х гг. Первым его ввел Теодор Адорно, критикуя процессы массовизации и тиражирования «культурного производства» в послевоенной Америке1. Предметом его критики была стандартизация культурной жизни, связанная с быстрым превращением культурно-художественных продуктов в потребительскую ценность. Концептуальным основанием для этого толкования было принципиальное различение высокой и массовой культуры. Понятие «культурных индустрий» относилось, прежде всего, к каналам распространения, и именно этим обстоятельством объясняется внимание к средствам массовой коммуникации – кино, телевидению, радио, а также к рекламе и иным формам доставки информации.
Новый этап осмысления феномена культурной индустрии относится к 1960–1980-м гг., когда отчетливо оформился интерес политиков к технологиям развития среды, прежде всего среды современного города. Это было обусловлено как растущей ролью сферы досуга и услуг, так и пониманием того, что инвестиционная привлекательность территории часто находится в прямой зависимости от качества среды и качества жизни на этой территории. Таким образом, вложения в сервисы и инфраструктуры становятся экономически целесообразными с точки зрения стратегий городского или регионального развития. Именно в это время, если говорить о Европе и США, происходит лавинообразный рост центров развлечений, тематических кафе и клубов и иных элементов культурной среды. Новый толчок получает стратегия развития городских кварталов и центров, вплоть до создания районов, концентрирующих разные виды социально-культурной активности и программ возрождения городов через культурные и исторические ресурсы.
В целом, качественное отличие этого периода представлений о культурной индустрии состояло в том, что произошел сдвиг от их негативной оценки к «позитивной» системе профессионально-проектных установок.
Так начинало складываться особое деятельностное пространство, где понятие «культурная индустрия», выработанное в философской традиции, «обрастало» дополнительным слоем значений и смыслов, складывающихся в проектные и затем уже в профессиональные нормы. С этого момента общей практикой становится употреб- ление термина во множественном числе, что подчеркивает различные форматы практического применения.
Наконец, третья волна интереса к культурным индустриям, начавшаяся в относительно недавнем прошлом, связана с тем, что Джереми Рифкин обозначил как «культурный капитализм»1. Именно в начале этого этапа получает распространение и становится влиятельной идея «экономики услуг». Суть ее состоит в том, что классическая теория рынка как места обмена товаров уступает место более «персонализированной» экономике, где предложение услуги оказывается более востребованным и, следовательно, более выгодным. Не товар как «вещь», а именно услуга, предполагающая тот или иной формат отношений между продавцом и покупателем, способ ее предложения и распространения и, в конечном счете, выход на ее многократное воспроизводство в рамках образа жизни потребителя, определяет успешность любого предпринимательского действия. Отсюда и интерес к культуре поведения, к кодам, определяющим поведение человека на протяжении всей его жизни. В дело вступают социально-культурные параметры, а предметом продажи становится не товар и услуга, а стиль и образ жизни.
В этом, третьем, смысле определение культурных индустрий оказывается предельно широким и относится ко всем механизмам формирования образа и стиля жизни – как отдельного человека, так и больших социальных групп.
Все три области применения понятия «культурных индустрий» сохраняют свою значимость для современной социально-культурной ситуации. Но речь идет об адекватном их понимании и применении – в зависимости от того, какие политические, экономические, социальные или собственно культурные цели ставят перед собой действующие на этом поле акторы. В конечном счете мы говорим об индустриях – технологиях, об инструментах деятельности, цели и ценности которой могут быть предельно различными.
В результате термин «культурные индустрии» оказался нагруженным невообразимым облаком смыслов. Даже опираясь на некую сложившуюся традицию смыс- лового наполнения термина и понятия, вряд ли можно рассчитывать на сколько-нибудь отчетливое понимание того, с чем мы имеем дело. Можно было бы, скажем, говорить об «индустриях свободного времени», спорте, туризме и далее по списку. Аналитика уже опирается на устоявшийся термин «индустрия развлечений». В европейских странах идея «креативных индустрий» растягивается не только на технологично организованные виды производства культурных знаков, но и используется для обозначения «штучного» продукта – авторской одежды, мебели, устройства дома, ювелирных изделий и дизайна в целом. А граничные понятия «медиа индустрий» и «информационных индустрий» делают ситуацию вовсе неуправляемой в понятийном смысле.
Более или менее понятна ситуация культурно-политических конструкторов 1950–1970-х гг. в европейской традиции проектирования городской и региональной среды. Для них объем понятия носил сугубо деятельностный характер и был ограничен практическим смыслом качества среды на определенной территории (чаще всего, города). Конечно, это предполагало множество междисциплинарных мостиков, позволяющих «перевязывать» в проектном режиме политико-экономические, социально-демографические и миграционные потоки, втягивать в контекст базового процесса транспортные, инженерные, информационные и образовательные инфраструктуры. Но по большому счету относительно устойчивая рамка города или, на следующем шаге, региона удерживала все это многообразие представлений и помогала поддерживать приемлемый уровень коммуникации и понимания самых разных профессиональных групп и участников ситуации.
По сути, именно на этот временной период приходится пик волны «второй культурной революции»2, когда во всех индустриально развитых странах происходит не только перераспределение соотношений, но и качественное изменение отношения к рабочему и свободному времени. Свободное время оказывается вполне соразмерным рабочему в экономическом и инвестиционном смысле и, следовательно, начинает «застраиваться» инфраструктурами, приносящими выгоду. Оно оказывается тем пространством, на котором индустрии здорового образа жизни начинают теснить традиционное здравоохранение, где дизайн приватных и публичных мест оказывается фактором конкурентоспособности территории и одновременно является инструментом новой социальной стратификации городского населения, в которой, в конечном счете, заново переосмысляется характер отношения человека с его искусственной (культурной) средой.
Конструктивным выходом из ситуации, как кажется, является попытка ограничить масштаб явления и свести его к таким технологиям (индустриям), базовым назначением которых является массовое производство – распространение текстов, несущих социальные значения (смыслы, коды поведения, стили жизни и т.д.).
В целом, с рядом ограничений и оговорок, можно выделить сферу действия «собственного предмета» культурных индустрий, которая сложилась к концу 1990-х гг.1 Ее отдельные сегменты включены в деятельность по индустриальному производству и распространению текстов. Это:
-
• телевизионная и радиоиндустрия, включая кабельное и спутниковое TV;
-
• индустрия производства фильмов, с учетом видео, DVD, а также телевизионных фильмов;
-
• интернет-индустрия, включая все формы «net art» и «net culture», а также производство сайтов, порталов и иных форматов коллективной и групповой коммуникации;
-
• музыкальная индустрия: звукозапись, распространение записей со всеми формами контроля и соблюдения прав, а также различные виды «live performance»;
-
• издательский бизнес, включая книги, CD-ROM, информационные базы и сопутствующие им услуги, а также (в определенной части) журналы и газеты;
-
• разного рода образовательные и игровые индустрии (иногда здесь исполь-
- зуется обобщенное название «edutain-ment»).
Следует упомянуть также индустрию рекламы и маркетинга со всеми относящимися сюда технологиями; ряд технологий формирования городской и региональной среды в той части, где уже сформировалась социально-индустриальная модель воспроизводства и распространения этой деятельности – клубы, массовые действия и иные формы наполнения образа жизни, особенно в урбанистических центрах.
В этом (знаково-семиотическом) смысле с приоритетным выделением функции производства и технологичного распространения текстов, имеющих социальный смысл, культурные индустрии, безусловно, превращаются в своего рода мотор политических и экономических процессов. А равно и в весьма привлекательную площадку для конкуренции стран и регионов. При этом основной поток смыслов смещается в сторону глобальных эффектов, равно существенных для различных регионов мира.
По сути, при всей многослойности этого процесса на наших глазах происходит формирование нового языка управления, фокусом влияния которого является стиль и образ жизни больших групп населения в разных странах. Начиная с 1980-х гг., можно наблюдать превращение культурных индустрий (культурной политики в целом) в эффективный инструмент нового поколения управленческих технологий.
Из объекта, испытывающего эффекты турбуленции от других мировых факторов и тенденций, культурные индустрии и стоящие за ними виды деятельности превращаются в источник возмущения для мировых процессов экономики и культурной политики. Даже самый поверхностный анализ дает основания для помещения этого феномена в ядро политико-экономических и социально-политических событий начала XXI в.
Отметим только некоторые из этих сдвигов, сказавшихся на общем изменении глобального политико-культурного и социально-экономического климата.
Изменение приоритетов экономического роста. Настоящий бум культурных индустрий в 1980–1990-е гг. был, с одной стороны, запущенобщейсоциально-экономической ситуацией и изменениями стратегических приоритетов крупного и среднего бизне- са. Так, в частности, уже к началу 1980-х гг. обозначился перелом в пользу роста сектора услуг по сравнению с сектором производства товаров. Так, вложения в «экономику услуг» за период с 1970–1990 гг. увеличились в Великобритании в два раза, в Японии – в полтора, в США – в 1,4 раза и т.д.
Учитывая, что уже в начале 1980-х гг. развитые европейские страны столкнулись с эффектами экономического кризиса на фоне быстрого роста экономик «юго-восточных тигров», сам факт быстро растущих вложений в зону хайтека и культурных индустрий покажется еще более интересным. Эти сферы вложений, несмотря на высокую стоимость предварительных исследований и объективные сложности в управлении, превращаются из локально ориентированного бизнеса в фактор геополитической и геоэкономи-ческой конкуренции регионов.
Изменение структуры занятости. За относительно короткий срок в 15–20 лет в развитых постиндустриальных странах произошли столь серьезные подвижки в общей структуре занятости, что это стало темой исследований, инициированных всеми крупными межнациональными организациями (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ВТО и т.д.).
В конце 1990-х гг. британское правительство опубликовало открытый доклад «Creative Industries Mapping Document», согласно данным которого «креативные индустрии» давали места для работы более чем 1 млн чел., что составило порядка 4% от всех занятых в стране. Для сравнения можно указать, что численность всех занятых в агропромышленном комплексе в этот же период составляла менее 1,5%.
Изменение бизнес-среды. Еще одним фактором, влияющим на быстрый рост всего культурно-индустриального сектора, оказались организационные инновации в корпоративном управлении. Во-первых, значительная часть вертикально интегрированных корпораций начинает переходить к модели горизонтальной и вертикальной диверсификации, которая предполагает существование множества автономных фирм и центров, работающих в сетевой (или близкой к ней) логике взаимных деловых обязательств. Этот процесс, кстати, хорошо исследовал Дж. Рифкин в рамках его анализа эволю- ции крупнейших компаний Голливуда в их противостоянии телевизионной экспансии в 1960–70-е гг. Таким образом, опыт, полученный в процессе реорганизации одного из крупнейших культурно-индустриальных центров (модель аутсорсинга, матричная организация, сетевые формы ведения бизнеса и т.д.), начинает осваиваться значительной частью крупного и среднего бизнеса.
Во-вторых, с культурно-политической точки зрения интересен характер партнерства между игроками, действующими в этом новом сегменте экономических интересов. В отличие от классических форм партнерства в форме картелей или холдингов, плацдармом для взаимодействия все чаще становятся совместные проекты.
Инвестирование культурных индустрий в структуре «большого» бизнеса. Эволюция значимости культурных индустрий особенно хорошо видна на фоне роста расходов на рекламу, которая сама по себе является «индустрией культуры» и занимает свое особое место в структуре современного бизнеса.
По мере усиления конкуренции на рынках общественного потребления невиданным дотоле образом растет и рынок рекламы. Это, в свою очередь, имеет свои долгосрочные эффекты в сфере медиа индустрий, которые не только увеличиваются в объеме вещания и прочих количественных характеристиках, но и под давлением обрушившихся на них финансовых потоков меняют стилистику своего присутствия в общественном поле.
Новый культурно-политический курс. Эти до поры разрозненные, хотя и важные факты были, в конце концов, оформлены в концепцию «экономики переживаний». В рамках исследований одной из ведущих школ бизнеса – Гарвардской в 1999 г. вышла книга, которая открывается фразой: «Каждый бизнес – это сцена: товаров и услуг уже недостаточно, чтобы быть успешным»1. Смысл этой политико-экономической концепции состоит в том, что после эпохи стандартизированных услуг и товаров наступает «новое рыночное время» индивидуальных запросов, которые формируются на основе узко индивидуального опыта потенци- альных потребителей. И, следовательно, основная прибавочная стоимость в XXI в. будет создаваться в зоне креативных индустрий, позволяющих индивидуализировать потребление в любой сфере мирового рынка.
Иными словами, весь сектор потребления превращается в экономику переживаний, а формы работы с культурным опытом призваны создавать принципиально новый продукт – уникальное переживание (новый опыт).
В целом, оказывается очень любопытным наблюдать эволюцию, происходящую со сферой культурных индустрий за последние двадцать-тридцать лет. Сквозь динамику изменений, происходящих во «внешнем контуре», в мировой политике, экономике, технологиях организации и управления, в социально-культурном горизонте и т.д., начинает, как в зеркале, проступать реальная специфика интересующего нас предмета.
Культурные практики, включая сферу культурных индустрий, на протяжении ХХ в. постепенно сдвигались в центр политических и социально-экономических процессов. Это имело свои объективные показатели как за счет количественного увеличения объемов свободного времени, так и за счет формирования качественно иной культуры потребления и досуга.
Распространение этой масштабной практики, развитие культурных индустрий, на наш взгляд, может позволить не только сохранить культурное пространство России, но и развивать новаторство и эксперименты в культуре, к которым призывает поли тическое рук оводство страны1.