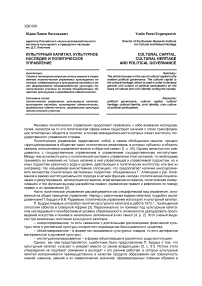Культурный капитал, культурное наследие и политическое управление
Автор: Юдин Павел Евгеньевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам использования в современном политическом управлении культурного капитала, содержащегося в культурном наследии в целях формирования общегражданской культуры политического участия на основе объединяющих общество культурной и гражданской идентичности.
Политическое управление, культурный капитал, культурное наследие, культурная идентичность, гражданская идентичность, гражданская культура политического участия
Короткий адрес: https://sciup.org/14931525
IDR: 14931525 | УДК: 008
Текст научной статьи Культурный капитал, культурное наследие и политическое управление
Феномен политического управления продолжает привлекать к себе внимание исследователей, несмотря на то что политическая сфера жизни существует начиная с эпохи трансформации потестарных обществ в политии, в основе жизнедеятельности которых лежат институты государственного управления и права.
Политическое управление представляет собой, в самом обобщенном смысле, процесс «функционирования в обществе таких политических механизмов, в которых субъекты и объекты связаны отношениями управления-власти и обратной связи» [1, с. 40]. Однако зачастую оно смешивалось с государственным управлением и управлением государственными институтами. Между тем если вести речь о политической системе и управлении этой системой, то необходимо принимать во внимание не только наличие в ней управляющей и управляемой подсистем, но и иных подсистем различного рода и уровня, действующих в политических институтах или вне их (например, так называемая внесистемная оппозиция), что предполагает наличие многоуровневого множества относительно автономных подсистем, объединенных Г. Алмондом и Дж. Колеманом в рамках институционального подхода в четыре функции «входа» (политическая социализация и рекрутирование, артикуляция интересов, агрегирование интересов, политическая коммуникация) и три функции выхода (разработка правил, применение правил и рефлексия по поводу правил и их применения) [2].
Часто политическое управление рассматривается как специфический вид управления, основанный на общих принципах управления. Наряду с различными видами капитала, подробно исследованными П. Бурдье и В.В. Радаевым, политическое управление использует и культурный капитал.
П. Бурдье впервые употребил понятие культурного капитала в работе 1972 г., посвященной этнологии кабилов в Северной Африке [3]. Первоначально он понимал под культурным капиталом наследуемый и приобретаемый уровень образованности, возможности декодировать произведения искусства и понимать изначально заложенный в них смысл [4, р. 2]. Этот ученый выделял три возможных состояния культурного капитала:
-
– инкорпорированное, то есть связанное с длительными диспозициями физической культуры тела и умственной культуры конкретного индивида как биосоциального существа;
-
– объективированное – в форме так называемых культурных товаров, то есть артефактов материальной и духовной культуры;
-
– институционализированное – в форме объективации в различного рода институциях.
Однако, как нам представляется, ошибочным было представление П. Бурдье о том, что культурный капитал «угасает и умирает вместе со своим владельцем» [5, с. 61]. Истоки этого утверждения не подлежат сомнению и восходят к его ранним работам, в которых культурный капитал воспринимался преимущественно в качестве продукта образования как совокупность знаний, навыков, умений и их символических значений, сформированных главным образом в процессе социализации и образовательной деятельности индивида. Это утверждение совершенно справедливо, если речь идет о человеке, не оставившем значимых культурных артефактов. Напомним, однако, в этой связи еще не вполне осознанную и разработанную отечественными и зарубежными учеными удивительно глубокую мысль Ю.М. Лотмана о том, что смыслы памяти с течением времени не сохраняются в неизменном виде, а возрастают – культурная память «сохраняет прошедшее как пребывающее» на основе общедоступного и разделяемого обществом культурного кода [6, с. 200–201].
В отличие от П. Бурдье концепция культурного капитала австралийского ученого Д. Тросби подразумевала рыночный подход к этому феномену. К культурному капиталу он относил все артефакты и явления культуры, которые могут иметь рыночную стоимость. Начав в 1970-е гг. с исследования проблем экономики культуры, Д. Тросби создал целостную концепцию культурного капитала, к которому он причислил и культурное наследие, отмечая при этом, что «материальный культурный капитал, унаследованный из прошлого, может рассматриваться как нечто близкое к природным ресурсам, которые также были даны нам в качестве наследства» [7, с. 80]. Символичным было и название соответствующего раздела его книги «Экономика и культура» – «Наследие как культурный капитал».
По мнению Д. Тросби, «…прогресса в понимании культурной ценности можно достичь путем ее разложения на составляющие. Не претендуя на исчерпывающее перечисление, можно предположить, что культурная ценность, скажем, предмета искусства может быть разложена на несколько компонентов, включая эстетическую, духовную, социальную, историческую, символическую и аутентичную ценность» [8, с. 217].
Очевидно, что в ценности объекта культурного наследия в качестве объектов политического управления можно выделить духовную, социальную, историческую и символическую ценности. О.А. Жукова отмечает, что при формулировании целей и задач культурной политики неизбежно возникает вопрос об исторической преемственности российской культуры, о роли в современной российской культуре культурного наследия, при этом культура выступает в качестве «медиатора и коммуникатора в диалоге различных общественных групп, социальных институтов, духовных традиций и практик [9, с. 27].
Политическое управление культурной политикой в современном обществе должно не только задействовать ресурсы ценностно-нравственного и исторически-эмоционального и символического содержания культурной памяти, но и добиваться консолидации общества на основании общего исторического прошлого, общих базовых нравственных ценностей, подвергшихся селективному отбору в процессе исторического развития общества и государства, задающих рамки как социализации и повседневных социальных практик, так и терминальных ценностных ориентиров поступательного развития.
Именно общность исторических судеб народов, образующих современное российское общество, наличие общепризнанных судьбоносных развилок в исторической судьбе этих народов, опора на национальное культурное наследие, позволяющее поддерживать преемственность исторического развития как отдельных этнических культур, так и всего многосоставного российского общества, тесная взаимосвязь народов соседних государств с российским культурным наследием и природным наследием России, включенным в состав Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, – все это в конечном счете знаменует качественно новый этап развития современного политического управления социально-культурной сферой. В его основании лежат принципы диалога и гражданского участия в выработке и реализации культурной политики политических и неполитических общественных институций, принципы государственно-общественночастного партнерства и гражданской солидарности, то есть принципы партиципаторной политической культуры или политической культуры участия.
Собственно в рамках совместной продуктивной деятельности формируется позитивная консолидация общества, которая является важнейшим фактором конкурентоспособности России на международной арене в условиях обострившейся глобальной конкуренции. Это позволит преодолеть негативное воздействие массовой американской культуры на российское общество, не допустить развития процессов эрозии российской гражданской и культурной идентичности, формирования, прежде всего у молодежи, «размытой идентичности».
Ссылки:
-
1. Шабров О. Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. М., 1997. 200 с.
-
2. The Politics of Developing Areas / G. A. Almond, J. S. Coleman, Eds. Princeton, 1960. 591 p.
-
3. Bourdieu P. Esquisse d´une théorie de la pratique, précédé de trois études d´ethnologie kabyle. Genèvе, 1972. 272 р.
-
4. Bourdieu P. Distinction: A social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, 1984. 640 p.
-
5. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 60–74.
-
6. Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Избранные статьи в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992. С. 200–202.
-
7. Тросби Д. Экономика и культура. М., 2013. 256 с.
-
8. Там же.
-
9. Жукова О. А. Культурная идентичность, культурное наследие и культурная политика России // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 2. С. 25–30.
Список литературы Культурный капитал, культурное наследие и политическое управление
- Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. М., 1997. 200 с.
- The Politics of Developing Areas/G.A. Almond, J.S. Coleman, Eds. Princeton, 1960. 591 p.
- Bourdieu P. Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études d'ethnologie kabyle. Genèvе, 1972. 272 р.
- Bourdieu P. Distinction: A social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, 1984. 640 p.
- Бурдье П. Формы капитала//Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 60-74.
- Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении//Избранные статьи в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992. С. 200-202.
- Тросби Д. Экономика и культура. М., 2013. 256 с.
- Жукова О.А. Культурная идентичность, культурное наследие и культурная политика России//Знание. Понимание. Умение. 2009. № 2. С. 25-30