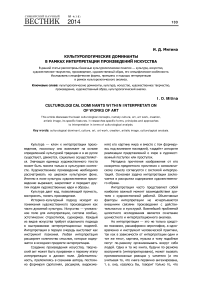Культурологические доминанты в рамках интерпретации произведений искусства
Автор: Митина Ирина Дмитриевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрены базисные культурологические понятия - культура, искусство, художественное творчество, произведение, художественный образ, его специфические особенности. Исследованы специфические формы, принципы и подходы интерпретации в рамках культурологического анализа.
Культурологические доминанты, культура, искусство, художественное творчество, произведение, художественный образ, культурологический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14113990
IDR: 14113990
Текст научной статьи Культурологические доминанты в рамках интерпретации произведений искусства
Культура — ключ к интерпретации произведения, поскольку оно возникает на основе определенной культурной традиции и в ее русле существует, движется, социально осуществляется. Значащая единица художественного текста может быть понята только в культурном контексте. Художественное произведение необходимо рассматривать на широком культурном фоне. Именно в поле культуры художественное произведение выражает, закрепляет и передает другим людям художественные идеи и образы.
Культура дает код, позволяющий прочесть, воспринять, понять произведение.
Историко-культурный подход исходит из понимания художественного произведения как части духовной культуры. Искусство — уникальное поле для интерпретации, система особых, эстетических стереотипов, сценариев. Каждый из видов искусства требует отдельного подхода в выстраивании интерпретационных моделей. Интерпретация в первую очередь выступает как инструмент познания. Любая интерпретация расширяет количество смыслов, которые содержатся в исходном предмете интерпретации.
Создание произведения искусства, творческий акт может быть приравнен к первому этапу интерпретации в данном поле. Действительность, преломляясь в сознании автора, постоянно формируя (дополняя, расширяя, видоизме- няя) его картину мира и вместе с тем формируясь под влиянием последней, «задаёт» алгоритм реализации представлений о мире в художественный поступок или проступок.
Методика прочтения изображения от его конкретно-предметного прочтения к символическому смыслу согласуется с системой интерпретаций. Основная задача интерпретации заключается в раскрытии содержания художественного образа.
Интерпретация часто представляет собой наиболее важный момент взаимодействия зрителя с художественной работой. Объективные факторы интерпретации не исчерпываются внешними связями произведения с действительностью и культурой. Важнейшей проблемой целостного исследования является сочетание ценностного и интерпретационного анализа.
Но интерпретация — это не только средство познания, расшифровки иероглифов, а одновременно и инструмент человеческой практики, так как в зависимости от интерпретации один и тот же текст, картина, музыка и тому подобное могут по-разному организовывать вокруг себя людей. Одна и та же книга, будучи по-разному воспринята (интерпретирована), может вызвать противоположные реакции у читателя (и это учитывая то, что книга первично ангажирована, т. е. она, казалось бы, говорит только то, что говорит), от полной негации до полного безоговорочного принятия.
Анализ останавливается, дойдя до определенной точки, так как за этой точкой находится интерпретация автором интерпретируемого объекта.
Художественное произведение представляет собой один из важнейших видов художественной коммуникации. Обращаясь к интерпретации произведения искусства, мы одновременно касаемся и вопроса о его восприятии и понимании, что, в свою очередь, также составляет и предмет исследований герменевтики.
Это своего рода диалог между говорящим и слушающим, пишущим и читающим, в процессе которого осуществляется деятельность по распредмечиванию смысла произведения искусства, именуемая текстовой деятельностью [1]. Диалог этот можно рассматривать как процесс столкновения картин мира автора и интерпретатора, поскольку понимание любого художественного произведения обусловлено комплексом факторов социально-психологического и культурно-языкового характера, контекстом бытия реципиента. Данную форму диалога можно рассматривать в варианте рефлексивно-аналитического диалога [6].
В процессе прочтения произведения искусства или диалога произведения искусства реципиент пытается постичь смысл, заложенный автором в произведении, т. е. найти точки соприкосновения между своей и авторской картиной мира, между «своим» и «чужим».
Восприятие фактов иноязычной культуры в произведении искусства характеризуется национально-специфическими различиями, существующими между родной и чужой культурами. Здесь проблема понимания встает наиболее остро, так как именно эти различия создают определенные трудности в процессе восприятия иноязычного произведения искусства, что может привести к неадекватной интерпретации чужой культуры [2].
Принадлежность субъектов интерпретации к одной (как правило, национальной) картине мира, их погруженность в данный культурноисторический (и художественный) контекст, общая реакция на семиотические системы и аксиологическая «солидарность» обеспечивают бытие (и, следовательно, функционирование) рассматриваемых объектов в качестве произведений искусства.
Автор картины, фотоснимка, инсталляции — это автор данного произведения и автор интерпретации, конечным результатом которой и является данное произведение.
Зритель, посетитель галереи, завсегдатай музея — это реципиент данного произведения и автор интерпретации, конечным результатом которой является истолкование, понимание и осмысление данного произведения.
Критик, обозреватель арт-событий — это реципиент данного произведения и автор интерпретации, конечным результатом которой является истолкование, понимание и осмысление данного произведения как уникального в рамках понятий и терминов (стереотипов, сценариев, скриптов), заданных именно изобразительным искусством.
Интерпретация и основанное на ней понимание должны учитывать, с одной стороны, все объективные данные, относящиеся к любому тексту или информационным системам; с другой стороны, никакая интерпретация, даже в естественных науках, тем более в гуманитарных дисциплинах не может подходить к своему объекту без каких-либо идей, теоретических представлений, ценностей ориентации, т. е. без того, что связано с деятельностью познающего субъекта.
В какой бы форме ни осуществлялась интерпретация, она теснейшим образом связана с пониманием, так как служит его исходной основой. Из того, что в процессе понимания индивид сам приписывает смысл объекту, вовсе не следует, что всякое понимание в равной степени приемлемо. Интерпретация объекта всегда носит гипотетический характер и может быть пересмотрена. Таким образом, главная цель понимания состоит в том, чтобы придать смысл объекту познания. Основой понимания, т. е. тем источником, который снабжает нас интерпретациями, является индивидуальный смысловой контекст, представляющий собой систему взаимосвязанных смысловых единиц [2].
Социальное и особенно гуманитарное познание имеет дело с текстами культуры (соответственно, контекстами и подтекстами), символами в целом, с естественными и искусственными языками, поэтому перед ним встает задача постичь природу понимания, интерпретации текстов, знаковых систем, символов, выяснить проблемы, связанные с ролью языка культуры в познании. Известно, что в познавательной деятельности мы полагаемся на смыс-лополагание или раскрытие уже существующих смыслов, на постижение значения знаков, т. е. интерпретацию, следовательно, мы выходим на проблемное поле герменевтики, а субъект предстает перед нами как «человек интерпретирующий».
Герменевтика как теория интерпретации текстов, наука о понимании смысла написанного получила широкое распространение в современном и зарубежном литературоведении. Она считается универсальным принципом интерпретации литературных памятников. Предмет как литературной герменевтики, так и философской — интерпретация, «понимание». Функция интерпретации состоит в том, чтобы научить понимать произведение искусства, его художественную ценность. Инструмент интерпретации — сознание воспринимающей произведение личности, то есть интерпретация рассматривается как производное от восприятия литературного произведения.
Понимание произведения в целом невозможно без понимания его частей. Интерпретация, исследуемая в герменевтике, аналитической философии, методологии и логике, является общенаучным методом и базовой операцией социально-гуманитарного познания. Она предстает как истолкование текстов, смыслополагающая и смыслосчитывающая операции; в философии наряду с методологическими функциями исследуется и онтологический смысл интерпретации как способа бытия, которое существует, понимая. Понимание трактуется как искусство постижения значения знаков, передаваемых одним сознанием другому, тогда как интерпретация, соответственно, как истолкование знаков и текстов, зафиксированных в письменном виде.
Для интерпретации значимо взаимодействие между автором и интерпретатором, намерения которого влияют на ее содержание и сказываются на ее глубине и завершенности. В гуманитарном знании интерпретация — фундаментальный метод работы с текстами как знаковыми системами. Текст как целостная функциональная структура открыт для множества смыслов, существующих в системе социальных коммуникаций. Он предстает в единстве явных и неявных, невербализованных значений, буквальных и вторичных, скрытых смыслов.
Грамматическая интерпретация осуществлялась по отношению к каждому элементу языка, его грамматическим и синтаксическим формам в условиях времени и обстоятельств применения. Психологическая интерпретация раскрывает представления, намерения, чувства сообщающего, вызываемые содержанием сообщаемого текста. Историческая интерпретация предполагала включение текста в реальные отношения и обстоятельства.
Существуют и другие подходы к типологии интерпретации. Типология Л. А. Уайта рассмат- ривает исторический подход, эволюционизм и функционализм как три различных, четко отграниченных друг от друга способа интерпретации культуры, каждый из которых важен и должен быть учтен при изучении процессов не только в культуре, но и в обществе в целом [3].
Таким образом, понимание и объяснение и в истории философии, культурологии, и в современных философских, культурологических учениях остаются проблемными и во многом дискуссионными. Философы и культурологи сформировали герменевтику как философскую теорию познания, творчества и индивидуальности. Герменевтика признала единственно доступным и ценным мир человеческого общения. Мир культурных ценностей внутри него составляет язык, с помощью которого должны быть поняты и истолкованы все составляющие культуры.
Но все же наиболее употребим сегодня герменевтический подход в области культурологии, эстетики, искусствознания. Существует герменевтика литературных произведений, живописи, архитектуры, театра, кино, моды. Это указывает на богатство смыслов и богатство интерпретаций. Имена таких теоретиков и практиков герменевтики произведений искусства, как М. Хайдеггер, Г. Г. Гадамер, М. М. Бахтин, А. Аверинцев, Р. Барт, П. Рикер, широко известны.
В отношении степени глубины понимания творческого замысла художника существуют диаметрально противоположные мнения. Позитивизм, структурализм в целом отвергают принцип «тайны» творца и творения, полагая, что «правильная» методология дает возможность прояснить все мельчайшие детали и причинные связующие звенья происхождения и существования произведения искусства. В то же время существует и противоположная точка зрения, связанная с традицией агностицизма и склоняющаяся к констатации непознаваемости произведения искусства [4].
Согласно большинству герменевтических концепций, каждый художник, а следовательно, и каждое произведение искусства имеют историческую и социальную обусловленность. Поэтому чтобы лучше понять смысл данного произведения, нужно реставрировать культурноисторический и социальный его контекст.
Более объемным контекстом служит историческая эпоха, как, например, Античность, Средние века, Возрождение и т. д. Фактор социальности более узок, это может быть семья, социальная группа, класс. Нельзя отрицать и преуменьшать социальные детерминанты природы художественного творчества. А. Я. Зись и
М. П. Стафецкая, авторы искусствоведческой работы «Методологические искания в западном искусствознании: критический анализ современных герменевтических концепций» [4], рассматривают детально, кроме всего прочего, со-циологизаторские направления в западном искусствознании, в которых так или иначе используются герменевтические подходы. Они справедливо утверждают, что «социально обусловлен как сам процесс творчества и исторические формы бытования и функционирования искусства, так и процесс восприятия художественного произведения. Последнее может быть воспринято и присвоено индивидом только в обществе на основе овладения им социально обусловленным художественным языком.
Понимание произведения — также социальный процесс, немыслимый вне социального опыта реципиента» [4]. В связи с этим определяются и ведущие функции искусства в обществе. Можно выделить, например, адекватное отражение действительности, обеспечение эмоционально-психологически устойчивой формы воспитания, эстетизацию материально-предметной и социокультурной среды. В этом смысле искусство может рассматриваться не только как средство отдыха и рекреации, увеселения и развлечения, но и как формообразующая и преобразующая социальную действительность сила. Здесь есть, конечно, опасность излишней социологизации художественного процесса, его прагматизации, стремление свести его к тотальному дизайну, при этом еще и коммерциализированного типа. В то же самое время развитие общества, ускоренный характер социальных трансформаций приводит к новому типу восприятия и переосмысления реальности.
Хотя авторская интерпретация собственного произведения важна и существенна, она не может считаться общеобязательной и единственно правильной. Правомерность же множественности прочтений художественного произведения не превращает этот процесс в совершенно релятивный и подлежащий субъективному произволу. Жизненный опыт автора и смысл, запечатленный в произведении, создают устойчивую инвариантную программу переживаний и смыслообретений реципиента.
Наша трактовка при всей своей вариативности и множественности возможных смыслов произведения обусловлена рядом объективных и непреложных факторов: той социальной действительностью, что обусловила создание произведения, и той, что обусловила его прочтение. Последнее относится также к культурно- исторической и собственно художественным традициям и контекстам, к полю авторского творчества (предшествующие данному тексту произведения того же автора), к биографии автора и т. д. Все эти объективные факторы внешних связей произведения с действительностью и культурой, его породившими, создают устойчивые объективные параметры вариативной множественности прочтений заложенного в него смысла.
Последовательность подходов обусловлена движением от общего к частному, конкретному, то есть от реальности (социологический и гносеологический подходы) к культуре (историко-культурный, сравнительно-исторический подходы) и от нее к художнику, творческому процессу (биографический, творческо-генетический подходы).
Кроме «одноконтактных» подходов, при которых одна из сторон произведения предстает как бы крупным планом, существуют «многоконтактные» подходы, позволяющие охватить сразу две-три стороны художественного явления и раскрывающие как бы его средний план.
Историзм выступает как гарант монизма методологии. Многоподходность, обеспечивая всесторонний охват предмета исследования, благодаря контролю со стороны этой мировоззренческой установки и единой социологической природе всех подходов, не превращается в методологический плюрализм и эклектизм, а становится фактором целостного анализа произведения.
Реальность — ключ к смыслу произведения, ибо оно отражает социальную действительность. Эти аспекты произведения выявляет социологический подход, противоположный вульгарному социологизму, сводящему всю сложность творческих процессов к экономическим причинам.
Художественный мир — творчески преобразованное отражение и осмысление реальности. И это свойство произведения вызывает необходимость в гносеологическом подходе к нему (определение степени художественной правдивости, соответствия искусства реальности).
Абсолютизация же гносеологического подхода ведет к примитивному пониманию искусства в духе иллюстративности или натурализма.
Сравнительно-исторический подход фокусирует внимание на взаимодействиях внутри одного вида искусства, раскрывает линии взаимодействия в художественном процессе, типологические общности художественных явлений, сходные связи разных произведений с породившей их социальной действительностью [2].
Историко-культурный подход опирается на взаимодействие произведения с широким полем культуры и, в частности, с произведениями других видов искусства, сравнительно-исторический подход — на художественные взаимодействия, которые идут внутри одного вида искусства и касаются содержания, мыслительного материала, формы, художественного языка. Типология художественных взаимодействий — теоретическое основание современного историкокультурного и сравнительно-исторического анализа произведения.
Судьбы художника и самого произведения также являются ключом к его смыслу. Произведение всегда уникально и оригинально: в нем запечатлевается неповторимая личность его творца. На эту особенность художественного творчества опирается биографический подход, являющийся способом прочтения художественного произведения через личность автора [5].
Для интерпретации произведения важна его творческая история, сам акт сочинения, сам процесс написания и все его аспекты: психологический (состояние духа художника, его творческие переживания), текстологический (варианты произведения, зафиксированные в черновиках), хронологический (время написания произведения), жизненный (общие обстоятельства работы), объективно-физический (на какой бумаге, каким пером оно написано). Творческо-генетический подход историю создания произведения превращает в средство его прочтения.
Иногда художник сам формулирует замысел своего произведения, но и в этом счастливом для исследователя случае признание автора нуждается в интерпретации, а порой в дешифровке и даже коррекции. Творческая же история произведения — надежный способ выявления художественного целеполагания. Второй шаг выявляет ценность внешних связей произведения — богатство и оригинальность художественно запечатленных в нем эстетических отношений. Исследование ценности внешних связей произведения направлено на установление достигнутой в нем меры обогащения и расширения эстетического отношения художника к миру.
Ценностно-аналитическая процедура — сопоставление эстетических отношений, запечатленных в произведении, с «нормой», устоявшейся в художественной традиции эпохи. Высшим критерием здесь выступает эстетическое богатство [2].
Постижение и интерпретация художественного произведения в культурологическом аспекте требует особого отбора приемов активизации восприятия и анализа текста. В процессе такого методического подхода в постижении произведения искусства происходит не только перевод художественных образов в понятия и суждения, но и постижение реципиентом духовной атмосферы культурной эпохи и авторской модели мира.
Культурологический подход интерпретации сосредотачивает свое внимание на человеке как субъекте культуры, ее главном действующем лице, способном в моменты своего напряженного диалога с произведением культуры по «последним вопросам бытия» вмещать в себя все «старые» смыслы культуры и одновременно производить новые, еще неведомые миру.
-
1. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М. : Наука, 1984. С. 78.
-
2. Митина И. Д., Мартыненко А. В., Моисеева М. В. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода : учеб. пособие. Ульяновск : УлГУ, 2013. 372 с.
-
3. Философские проблемы наук. М., 2006. С. 534— 535.
-
4. Гадамер Г. -Г. Философия и литература // Актуальность прекрасного : пер. с нем. М. : Искусство, 1991. С. 126—146.
-
5. Митин С. Н. Имидж специалиста гуманитарной сферы : учеб. пособие. Ульяновск : УлГУ, 2013.
-
6. Митин С. Н. Управление рефлексивно-аналитическим диалогом в деятельности руководителя образовательного учреждения // Симбирский науч. вестн. 2012. № 1(7). С. 73—78.
Список литературы Культурологические доминанты в рамках интерпретации произведений искусства
- Дридзе Т М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: Наука, 1984. С. 78.
- Митина И. Д., Мартыненко А. В., Моисеева М. В. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода: учеб. пособие. Ульяновск: УлГУ, 2013. 372 с.
- Философские проблемы наук. М., 2006. С. 534-535.
- Гадамер Г.-Г. Философия и литература//Актуальность прекрасного: пер. с нем. М.: Искусство, 1991. С. 126-146.
- Митин С. Н. Имидж специалиста гуманитарной сферы: учеб. пособие. Ульяновск: УлГУ, 2013.
- Митин С. Н. Управление рефлексивно-аналитическим диалогом в деятельности руководителя образовательного учреждения//Симбирский науч. вестн. 2012. № 1(7). С. 73-78.