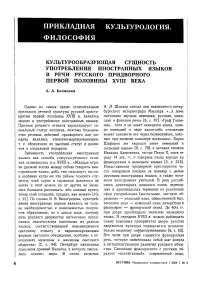Культурообразующая сущность употребления иностранных языков в речи русского придворного первой половины XVIII века
Автор: Беляцкая А.А.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Прикладная культурология. Философия
Статья в выпуске: 3, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14719101
IDR: 14719101
Текст статьи Культурообразующая сущность употребления иностранных языков в речи русского придворного первой половины XVIII века
Одним из самых ярких отличительных признаков речевой культуры русской аристократии первой половины XVIII в. являлось знание и употребление иностранных языков. Признак речевого этикета характеризует социальный статус человека, поэтому большинство речевых действий придворного или монарха являлись этикетно-маркированными, т. е. обозначали их высокий статус и различия в социальной иерархии.
Значимость употребления иностранных языков как способа статусно-речевого отличия осознавалась и в XVIII в.: «Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов разпознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя, продает, как может» [10, с. 21]. По словам В. В. Виноградова, «употребление иностранных языков являлось не только необходимостью и возможностью получения образования, но и данью моде, поэтому речь русского дворянства интенсивно пополнялась лексическими единицами из разных языков, соответствовавшей изменившемуся светскому этикету и европеизированным формам светского обхождения, особенно в отношениях мужчины и женщины светского общества» [2, с. 94]. Петербург напоминал приезжим древний Вавилон, в котором смешались «языки» мира. В своих записках
А. Л. Шлецер описал дом знаменитого петербургского историографа Миллера: «...в доме постоянно звучала немецкая, русская, шведская и финская речь» [8, с. 87]. «Граф Головкин... хотя и не знает немецкого языка, однако имеющий к нему какое-либо отношение может изложить его через переводчиков, каковых при великом канцлере несколько». Барон Шафиров же «хорошо знает немецкий и польский языки» [9, с. 70], а великая княжна Наталия Алексеевна, сестра Петра II, имев от роду 14 лет, < > говорила очень хорошо на французском и немецком языках [3, С. 213]. Представители придворной аристократии часто совершали поездки за границу с целью изучения иностранных языков, а также нанимали иностранных учителей. В речь российского аристократа вливался поток переводных и оригинальных терминов из различных сфер употребления (воспитание, светское обращение — польский язык, общественный быт, воинское дело — немецкий язык, литература и философия — французский язык). До 40-х гг. при дворе преобладало значение немецкого языка. В середине XVIII в. можно наблюдать смену языковых приоритетов двора: русская дворянская культура подвергается исключительно мощному «офранцуживанию» [6, с. 63]. Все чаще при дворе слышится французская речь, которая знаменовала собой шаг вперед в интеллектуальном развитии русского общества. Смешение французского с русским образует «воспитанный», современный язык, особенно его «модную» разновидность. Тонкий и гибкий французский открывал доступ в область философии и изящной литературы j [1,с.2О].
Яркий пример речевого поведения при-I дворного, безгранично употребляющего евро-g пейские заимствования, содержится в одной пьесе, написанной в XVIII в. о петровских временах: «мериты должны быть респектованы», «капабельна взбеситься» [1, с, 20]. В «Истории о царе Петре Алексеевиче» князь Куракин, : русский дипломат эпохи Петра, описывая, детство царя, говорил, что царица Наталья Кирил-; ловна была «править инкапабель», и далее характеризовал ее брата Льва Кирилловича как | человека, предававшегося пьянству и если делавшего добро, то «без резону по бизарии сво-' его тумору»; в записках он рассказывает, как в Италии он был сильно «иннаморат» в славную хорошеством некую «читтадину», вследствие чего у него едва не вышло duellio с одним «жентильомом» 11, с. 18]. Речь другого русского аристократа, Б. И, Шереметева, также носила на себе следы европеизации, что выразилось в частом употреблении иностран-1 ных слов в письмах. Иногда они заимствова-; лись из чужого языка в неизменном виде, например: «шарм», «респонс», «контент», «мизе-| рия»; иногда подвергались своеобразной фо-■ нетической обработке, например: «фатыга», ■ «паралиж», «меленколия» [7, с. 23, 45, 46, 68]. : Как следует из приведенных примеров, ино-] странные слова не всегда употреблялись по : необходимости, в силу отсутствия соответствующих им русских слов, а чаще только для украшения речи, по требованию моды, что в среде малообразованных людей приводило к «мальапропизму» (несоответствию упот-; ребляемого слова его контекстуальному эна-[ чению. —- Л. Б.).
Стиль письма начала XVIII в. не особенно отличался от эпистолярных памятников XVII У в.: «в письменной речи русского аристократа ■ присутствовало то же обилие оборотов цер-■ ковно-славянского языка и тот же книжный • строй» [4, с. 17]. Следует подчеркнуть, что i употребление иностранных языков и заим-[ ствований не только обогащало стилистические возможности русского языка, но и выполняло роль «этикетного маркера»: речь на ино-[ странных языках в первой половине XVIII в. являлась показателем принадлежности к выс шей аристократии. Речевое общение возможно тогда, когда люди владеют одним или очень близкими языками, а владеть одинаковой речью означает относиться к одному коллективу. На способности речи символизировать единство использующей ее придворной аристократии и основывается этикетная роль употребления иностранных языков. Языки способствовали групповой консолидированно-сти придворного микросоциума. «Перед нами не прихоть моды и не гримаса невежества, а характерная черта лингвистического процесса. В этом смысле употребление иностранных языков в речи составляет органический элемент русского культурного языкового общения» [6, с. 65].
Владение иностранными языками способствовало расширению границ понимания как между представителями высшего придворного круга, так и между ними и иностранными гостями.
Иностранные языки на дипломатических церемониях являлись важным этикетным знаком: каждый язык «говорил» за определенное государство и являлся косвенным признаком, отражающим иерархию отношений между странами. Выбор языка церемонии демонстрировал приоритет государства, чей язык использовался в качестве официального. В качестве примера приведем речь, которую при вручении верительных грамот Петру II держал испанский посланник в России Дук де-Лирия 30 декабря 1728 г.: «Речь свою я говорил на кастильском языке, еще по утру подав барону Остерману копию с нее с латинским переводом. Лишь только я кончил, царь сказал слова два Остерману — и тот отвечал мне по-русски, прислав мне после копию ответа на французском языке. По окончанию аудиенции у царя, церемониймейстер повел меня для такой же аудиенции к великой княжне, сестре Е. В ... Я говорил Ея Величеству по-французски и отвечать мне она приказала барону Остерману. ... И он исполнил это на том же языке. ... Тотчас же я отправился в помещение принцессы Елизаветы ... речь свою ей я говорил по-французски, и она приказала отвечать мне своей статс-даме графине Салтыковой, что она и исполнила так же по-французски» [5, с. 30]. Перечисляя использование разных языков, испанский посланник в своем отчете хотел показать, как соблюдался церемониальный обряд, в частности в языковом отношении. Для нас важным является знаковое наполнение языкового поведения на церемонии. Как следует из приведенного примера, испанский и русский язык использовался в приветственных речах фактически в качестве государственных, а латинский и французский языки — в качестве официальных и рабочих языков, которые сопутствовали русскому и испанскому как языкам государственным. Использование латыни и француз-ского в дипломатической сфере в исследуемый период было общим местом, свидетельством высокого общественно-политического статуса этих языков, а также средством консолидации различных языковых групп и целых наций.
Итак, использование иностранных языков в речи русской аристократии и на придворных церемониях выполняло ряд культурообразующих функций: коммуникативную, интегра тивную (сословно-разграничительную) и зна- , новую. Интегративная функция заключалась | в использовании иностранных языков с целью , консолидации и выделения придворного мик- : росоциума, некоей аристократической элиты, a, i значит, основной задачей использования языков являлась индикация высокого социально- : го статуса. Коммуникативная функция иност- : ранных языков состояла в установлении кон- | такта между представителями придворной аристократии (в этом смысле коммуникативная функция переплетается с интегративной), а также в поиске понимания с иностранными ; дипломатами. Сущность знаковой функции ; использования иностранных языков в церемо- ; ниале заключается в индикации официально- ; го регистра общения и наделении особым преимуществом того государства, чей язык ис- ) пользуется в качестве официального языка пе- ■ реговоров.
С. 83—123. ”.
Л. : Нация, 1982. ЗИ с.:
Поступили 50.06.08.
Список литературы Культурообразующая сущность употребления иностранных языков в речи русского придворного первой половины XVIII века
- Богословский М. М. Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века. Петроград: тип. тов-ва «Задруга», 1918. 47 с.
- Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. М.: Высшая школа, 1982. 529 с.
- Герцог Лирийский. Записки о пребывании при императорском Российском Дворе в звании посла короля Испанского//Россия XVIII века глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 189-261.
- Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев/отв. ред. Б. В. Левшин; АН СССР, Отд-е истории, Арх. АН СССР. М.: Наука, 1989. 312 с.
- Лирия Дук де. Письма о России в Испанию//Осмнадцатый век. М.: тип. Грачева и комп., 1869. Кн. 2. С. 11 -198.
- Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII -нач. XIX в.). СПб.: Искусство СПб., 1996. 415 с.
- Петров П. Цесаревна Анна Петровна (1708-1728): биографический очерк//Сборник исторических материалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII и XIX века. СПб., 1873. С. 83-123.
- Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России (первая половина XVIII в.). Л.: Нация, 1982. 311 с.
- Точное известие о новопостроенной его царским величеством Петром Алексеевичем на большой реке Неве и Восточном море крепости и города Санкт-Петербург: пер. с нем.//Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л.: Наука, 1991. 279 с.
- Юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов повелением е. и. в. гос. Петра Вел..и ныне 4-м тиснен, напечат. СПб., 1745. 78 с.