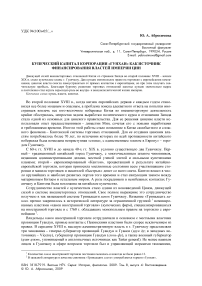Купеческий капитал корпорации «Гунхан» как источник финансирования властей империи Цин
Автор: Абросимова Юлия Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Движущей силой внешнеторговых отношений Китая со странами Запада во второй половине XVIII - начале XIX в. стали купеческие кланы г. Гуанчжоу. Дав купцам монопольное право на торговлю с европейскими компаниями, цинские власти смогли самоустраниться от прямых контактов с европейцами, но при этом получать значительную прибыль. Благодаря бурному развитию торговых отношений капитал купцов значительно вырос и постепенно стал играть серьезную роль во внутри- и внешнеполитической жизни империи.
Купец, власти, капитал
Короткий адрес: https://sciup.org/14737121
IDR: 14737121 | УДК: 94(100)«05/...»
Текст научной статьи Купеческий капитал корпорации «Гунхан» как источник финансирования властей империи Цин
Во второй половине XVIII в., когда натиск европейских держав с каждым годом становился все более мощным и опасным, а проблема поиска адекватного ответа на попытки иностранцев вовлечь все юго-восточное побережье Китая во внешнеторговую деятельность крайне обострилась, непростая задача выработки политического курса в отношении Запада стала одной из основных для цинского правительства. Для ее решения цинские власти использовали опыт предшественников – династии Мин, сочетая его с новыми наработками и требованиями времени. Итогом этой работы стало появление в Китае самобытного и сложного феномена – Кантонской системы торговых отношений. Для ее создания цинским властям потребовалось более 70 лет, по истечении которых по всей протяженности китайского побережья была возведена неприступная «стена», с единственным «окном в Европу» – городом Гуанчжоу.
C 60-х гг. XVIII и до начала 40-х гг. XIX в. условно существовало два Гуанчжоу. Первый – традиционный китайский город Гуанчжоу, с многочисленным штатом чиновников, ведавшим административными делами, местной ученой элитой и сильными купеческими кланами; второй – европеизированный «Кантон», процветавший в результате китайско-европейской торговли, которая приносила миллионные состояния всем участвовавшим сторонам и манила торговцев и искателей «быстрых» денег со всего света. Кантон вошел в число крупнейших и наиболее развитых портов того времени и стал связующим звеном между материковым Китаем и остальным миром. А роль посредников в неизбежных контактах Гуанчжоу и Кантона была возложена на китайское купечество.
Сотрудничество властей с купечеством стало одним из нововведений Цинов, движущей силой в системе внешнеторговых отношений. Свое полное выражение это сотрудничество получило в так называемой системе Тринадцати ханов Гуанчжоу. Название «Тринадцать ханов » прочно закрепилось в исторической литературе за ограниченной группой 1 номинированных властями «ханов иностранной торговли» (купеческих фирм), специализировавшихся на иностранной торговле и с 1760 г. обладавших монопольным правом на торговлю с европейцами 2.
Владельцы ханов иностранной торговли сотрудничали в основном с местными властями провинции Гуандун, прямые контакты с Пекинскими властями были скорее исключением из правил. В середине XVIII в. высшую административную власть в г. Гуанчжоу представляли три чиновника – генерал-губернатор провинций Гуандун и Гуанси (цзун ду; в западных источниках – Viceroy), губернатор провинции Гуандун (сюнь фу), а также военный губернатор (цзян цзюнь, упоминаемый в англоязычных источниках как Tartar general). Не менее важным лицом в Гуанчжоу в сфере вопросов торговли был и управляющий морскими таможнями, именуемый в западных источниках «Hoppo» 3. Под его контролем помимо центрального управления в Гуанчжоу находились внутренние таможни и инспектора иностранной торговли в Макао, а также таможенные управления в пяти центральных портах в районе Гуанчжоу 4.
Именно эти чиновники и подведомственные им местные органы власти осуществляли тщательный контроль над деятельностью ханов . В случае ханов иностранной торговли власти не ограничивались привычной ролью регулирующего и налогооблагающего органа, а стремились контролировать финансовую политику ханов и нередко диктовали купцам условия распоряжения полученными от торговли доходами.
Формально денежные поступления от владельцев ханов иностранной торговли можно разделить на три группы: официальные платежи, полуофициальные платежи и взятки.
К первой группе относятся платежи, поступавшие в казну в виде налогов и пошлин. Несмотря на то, что обязанность выплаты пошлин и налогов ложилась в равной степени на иностранцев и представителей ханов иностранной торговли, ответственными за своевременную уплату денежных взносов всегда были китайские купцы. Оплата экспортных пошлин должна была производиться в течение пяти дней после отгрузки товара, и корабль не мог без этого покинуть порт [Ch’en, 1971. Р. 140]. C импортными пошлинами ситуация была гораздо сложнее: по прибытии кораблей в порт Гуанчжоу (с конца июня и до середины сентября) владельцы ханов иностранной торговли сообщали о необходимых к уплате пошлинах в таможенное управление, а взимались эти пошлины в общем количестве в конце каждого фискального года – в конце октября – начале ноября. Уже одно количество таможенных выплат в Гуанчжоу во второй половине XVIII в. дает понять, насколько значительной была эта сумма. Существовавшие налоговые сборы и пошлины делились на три группы и выплачивались европейцами лично главе ответственного за их судно хана .
К первой группе относились пошлины, которые высчитывались по прибытии корабля в порт на основе предварительно сделанных обмеров, т. е. пошлины на тоннаж. К следующей группе денежных сборов относились «подарки» представителям местных властей, к которым китайские купцы часто вынуждены были добавлять личные средства. Общая сумма «подарков», взимаемая с европейцев, была одинакова для кораблей всех размеров и составляла 1 950 лян 5. Из этой суммы купцы выплачивали «подарки» в личную казну императора, губернатору провинции Гуандун, уполномоченному провинции по вопросам зерна, префекту Гуанчжоу, а также множеству мелких служащих. Третья группа включала в себя косвенные налоги и сборы, которые также выплачивались через китайских купцов-гарантов и отражались на иностранной торговле в виде постоянного изменения цен.
Большая часть рассмотренных выше сборов должна была единовременно выплачиваться купцами в конце каждого фискального года, и купцы готовили к этому времени нужную сумму. Однако выплаты могли потребовать и ранее установленного срока. Так, например, в 1814 г., управляющий таможнями получил приказ от центральных властей без промедления направить 800 тыс. лян на восстановительные работы на р. Хуанхэ, в этой связи от купцов потребовали выплатить все пошлины на три месяца раньше 6. В такой ситуации купцы бывали вынуждены обращаться к заемным средствам.
К группе полуофициальных платежей относились платежи из фонда Consoo. В 1775 г. владельцами ханов иностранной торговли был учрежден секретный финансовый фонд – хан юн [Лян Цзялинь, 1937. C. 130], упоминаемый в документах английской Ост-Индской компании более позднего времени как «Consoo Fund» – «Гунсо» (вероятно, происходит от названия «места собрания гильдии» на гуандунском диалекте kung-so ). До 1780 г., когда о создании фонда объявили официально, о существовании фонда Consoo были осведомлены исключительно купцы и некоторые высокопоставленные чиновники. В 1780 г. местные власти провинции Гуандун обязали купцов отчислять 3 % от фиксированной цены на некоторые статьи экспорта и импорта в общий фонд Consoo 7. Так, например, фиксированная цена шелка-сырца составляла 160 лян за пикуль 8, и независимо от того, как указанная цена и объемы экспорта под воздействием тех или иных факторов менялись из сезона в сезон, отчисления в фонд от продаж шелка неизменно составляли 4,8 лян с каждого пикуля [Morrison, 1834. P. 34]. В 1781 г., например, по оценкам английской Ост-Индской компании, в фонд Consoo поступило около 300 тыс. лян 9. Эта сумма возрастала пропорционально увеличению товарооборота, в 1829 г. она уже составила 720 тыс. лян [Ch’en, 1971. Р. 100]. Большая часть средств из фонда шла на отчисления в государственную казну и выплаты чиновникам, общая сумма которых возрастала с каждым годом. Особенность этих взносов состояла в том, что, будучи официально добровольными, на деле они были обязательны к уплате. Таким образом, получив привилегированное право заниматься иностранной торговлей, купцы одновременно принимали на себя обязательство быть социально активными в масштабах всей Цинской империи в целом и в рамках своего региона в частности. Купеческий капитал «шел в политику» и направлялся на финансирование различных правительственных акций, некоторые из примеров которых рассмотрены ниже.
Завоевательные походы и подавление восстаний. В 1773 г. Пань Чжэньчэн – владелец «Тун вэнь хана» пожаловал 200 тыс. лян на поддержку цинских войск, участвовавших в покорении западной части провинции Сычуань (Цзиньчуань) [The Eminent Chinese…, 1944. P. 605]. А когда в конце 1786 г. на о. Тайвань вспыхнуло восстание, Сунь Шии, бывший в то время генерал-губернатором провинций Гуандун и Гуанси, сумел с помощью представителей ведущих ханов иностранной торговли собрать необходимые средства в 300 тыс. лян для обеспечения борьбы с повстанческими отрядами [Ibid. P. 680]. В 1792 г. владельцы ханов Гуанчжоу частично финансировали военную кампанию против гурков – 300 тыс. лян, в 1803 г. – борьбу с последователями Тайного общества «Тяньдихуэй» («Небо и Земля», или «Триада») в области Хуэйчжоу – 100 тыс. лян, в 1803 г. – военную операцию против морской вольницы, возглавляемой Цай Цянем, – 30 тыс. лян. В период Крестьянской войны «Белого лотоса» (1796–1804 гг.), охватившей значительную часть империи, купцы из ханов иностранной торговли внесли в правительственную казну в качестве «добровольной помощи» войскам в общей сложности более 600 тыс. лян, столько же было пожертвовано и в 1826 г. на подавление уйгурского восстания, которое обошлось цинскому правительству в 10 млн лян [Непомнин, 2005. C. 381]. В 1830 г. из фонда Consoo на борьбу с мусульманскими повстанцами в Синьцзяне в императорскую казну было направлено 200 тыс. лян, уже через два года еще 210 тыс. лян на подавление восстания народности яо в северных районах провинции Гуандун.
Предупреждение и преодоление последствий стихийных бедствий. На содержание различных участков р. Хуанхэ и проведение различных восстановительных работ в период с 1773 по 1834 г. китайскими купцами, входившими в «Тринадцать ханов», было потрачено порядка 1 млн 700 тыс. лян. Так, в 1835 г. владельцами ханов иностранной торговли финансировалось строительство военных укреплений в Хумэне, для чего из средств фонда было выделено порядка 60 тыс. лян [Ch’en, 1971. P. 93]. Немалые суммы тратились и на помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий, а также на доставку риса в провинцию Гуандун в неурожайные годы.
Подарки императору . Помимо официально собранных торговых пошлин и налогов, ежегодно поступавших в государственную казну, еще около 855 тыс. лян направлялось через управляющего таможнями в Пекин, в личную казну императора. Кроме того, купцы нередко должны были покупать у европейцев различные диковинки и редкости, именуемые в западных источниках « sing-songs» , которые управляющий таможнями в качестве обязательной дани «по долгу службы» посылал в столицу. Частично стоимость таких подарков возмещалась китайским купцам из местного бюджета, но оставшуюся часть владельцы ханов покрывали из собственной прибыли. После 1784 г. императорским указом было отменено обязательное преподношение подарков официальными лицами Гуанчжоу, но не купцами, занимавшимися иностранной торговлей. Вместо подарков начиная с 1786 г. купцы должны были в качестве ежегодного «добровольного» пожертвования направлять в столицу 55 тыс. лян, а с 1801 г. – 95 тыс. лян. Иногда эта сумма, по настоянию официальных лиц Гуанчжоу, могла доходить и до 150–200 тыс. лян (сезоны 1805–1806 и 1806–1808 гг. соответственно) [Morse, 1926. P. 2]. Кроме того, в 1809 и в 1819 гг. из фонда Consoo было выделено соответственно 120 и 200 тыс. лян на проведение праздничных мероприятий в честь юбилея императора Цзяцина.
Таким образом, если сложить общую сумму отчислений из фонда Consoo в государственную казну и лично чиновникам, то получится, что ежегодно купцам приходилось направлять на различные полуофициальные нужды около 250 тыс. лян.
Сотрудничество представителей власти и купечества, когда первые предоставляют вторым возможность накопления капитала и прибегают к их финансовой помощи в экстренных случаях, имело место во все времена, и такие полуофициальные выплаты не были бы обременительными для купцов, если бы параллельно не сопровождались вымогательствами местных властей провинции Гуандун – так называемыми неофициальными платежами.
Если в местном бюджете провинции или в личном бюджете местных чиновников недоставало на что-либо средств, одним из первых источников, куда представители власти обращались за деньгами, были владельцы ханов иностранной торговли. Управляющий таможнями по поступавшим в бюджет экспортным и импортным пошлинам всегда более или менее точно представлял финансовое положение того или иного купца и выбирал своими «жертвами» наиболее успешных или принуждал их выплачивать за своих коллег. Для сбора денег с владельцев ханов иностранной торговли чиновники использовали любой повод и случай из торговой практики. Уклониться от неофициальных выплат купцам не удавалось и в некоторых других случаях, представленных ниже.
При получении лицензии на открытие хана иностранной торговли или продлении лицензии на ведение торговой деятельности . Нельзя с точностью сказать, какой была эта сумма, но даже владельцы тех ханов , которые создавались по инициативе властей для преодоления кризиса в торговле иностранцами, как в 1782 г., были вынуждены «делать денежные подарки» представителям власти. В. Хантер, например, утверждает, что лицензия могла стоить купцу до 200 тыс. лян [Hunter, 1965. P. 22]. По сведениям английской Ост-Индской компании, общая сумма выплат за лицензию наместнику провинций Гуандун и Гуанси, губернатору провинции Гуандун, управляющему таможнями, в управление Южных морей и др. варьировалась и 1829–1830 гг., например, составляла 42 024 лян 10.
Неминуемы были выплаты при передаче лицензии на торговлю с иностранцами владельцами ханов иностранной торговли своим ближайшим родственникам или получении разрешения на прекращение торговой деятельности. Когда в 1827 г. владелец хана «Тянь бао» Лян Цзинго решил передать право на управление ханом своему сыну Лян Тунсиню, то вы- нужден был заплатить за согласие официальных лиц 30 тыс. долл. (27 тыс. лян) [Хуан Ци-чэнь, Лян Чэнъе, 2003. C. 26–27]. Относительно небольшая сумма, если учесть, что за год до этого с У Бинцзяня – одного из богатейших купцов Гуанчжоу за передачу лицензии сыну У Юаньхуа потребовали гораздо больше – 500 тыс. долл. (450 тыс. лян) [Ch’en, 1971. P. 126]. Что касается прекращения торговой деятельности и ухода на покой, то за все время существования Кантонской системы торговых отношений это смогли сделать только два купца – Е Шанлинь 11 в 1804 г. и Пань Чжисян 12 в 1807 г. Последнему за разрешение официальных лиц прекратить внешнеторговую деятельность и закрыть хан иностранной торговли пришлось заплатить 500 тыс. долл. [Ibid.].
Незаконно взимаемая плата за право участвовать в торговле с английской Ост-Индской компанией менялась из года в год и определялась управляющим таможнями. В 1813 г., по данным английской Ост-Индской компании, она минимально составляла 8 тыс. лян 13.
Как видно из приведенных примеров, вымогательства местных властей провинции Гуандун приносили купцам немало сложностей. Начинающие деятельность купцы попадали в долги еще на стадии открытия хана и получения лицензии, когда большая часть бюджета уходила на взятки.
При этом особенно неблагоприятным было то, что в отличие от обязательных платежей из фонда Consoo, когда выплата больших сумм происходила в несколько этапов, в течение нескольких лет, выплачивать неофициальные платежи – взятки – купцы должны были незамедлительно, в полном объеме и только наличным серебром. Если суммировать все неофициальные платежи, которые шли в карман управляющего таможнями и в Департамент императорского двора в течение года, то получится огромная сумма, примерно 300 тыс. лян в год [Ibid. P. 131].
Если к полученной сумме прибавить полуофициальные платежи китайских купцов 14, то ежегодная сумма выплат получится еще больше, примерно 550–600 тыс. лян в год [Morse, 1926. P. 193]. Половину этой суммы купцы выплачивали из средств фонда Consoo, вторую часть владельцам ханов иностранной торговли в различных пропорциях приходилось покрывать из собственных средств.
Через призму финансовых отношений представителей власти и купечества г. Гуанчжоу можно рассмотреть особенности этих отношений и показать их определенную уникальность для Цинской империи. После установления Кантонской системы торговых отношений купечество избавило власти от общения с иностранцами по финансовым вопросам. Именно купцы гарантировали соблюдение всех правил торговли, а также своевременную оплату налогов и пошлин. Данное нововведение властей позволяло им собирать в бюджет 100 % торговых пошлин, поступавших от иностранных компаний, и вводить по мере необходимости новые налоги и пошлины, не сталкиваясь при этом напрямую с недовольством иностранцев.
Вся ответственность и нагрузка по решению этих вопросов ложилась на владельцев « ханов иностранной торговли». Другой важной особенностью отношений властей и купцов, специализировавшихся на торговле со странами Запада, было то, что последние стали для Цинов надежной опорой в решении задач государственного масштаба. Будь то вопросы социальные, внутри- или внешнеполитические, государство всегда могло рассчитывать на финансовую поддержку купечества. Купеческий капитал участвовал во многих принципиальных и жизненно важных для Цинской империи XVIII – начала XIX в. событиях.
За долгие годы общения с иностранцами владельцы ханов иностранной торговли помимо накопления состояния (или финансовых проблем) также получили серьезный опыт в общении с представителями стран Запада, втянулись в политику. Однако цинские власти в большей степени интересовались количеством финансовых поступлений и не сумели в полной мере использовать знания своих посредников. После первой Опиумной войны никто из быв- ших владельцев ханов иностранной торговли не принимал более участия в торговых отношениях со странами Запада.
THE CAPITAL OF THE HONG MERCHANTS OF CANTON AS A SOURCE OF FINANCE FOR THE QING GOVERNMENT