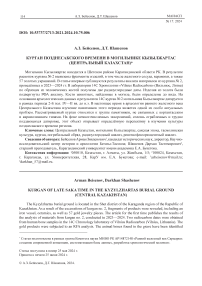Курган позднесакского времени в могильнике Кызылжартас (Центральный Казахстан)
Автор: Бейсенов А.З., Шашенов Д.Т.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Статья в выпуске: 17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Могильник Кызылжартас находится в Шетском районе Карагандинской области РК. В результате раскопок кургана № 2 выявлены фрагменты изделий, в том числе железного сосуда, керамики, а также 57 золотых украшений. В статье впервые публикуются результаты анализа материалов из кургана № 2, проведённых в 2023-2024 гг. В лаборатории 14С Хронологии «Vilnius Radiocarbon» (Вильнюс, Литва) по образцам из человеческих костей получены две радиоуглеродные даты. Изделия из золота были подвергнуты РФА анализу. Кости животных, найденные в могиле, были определены до вида. На основании археологических данных и результатов 14С курган № 2 могильника Кызылжартас датируется в рамках периода 2-й пол. IV-II вв. до н.э. В настоящее время в археологии раннего железного века Центрального Казахстана изучение памятников этого периода является одной из особо актуальных проблем. Рассматриваемый курган относится к группе памятников, не связанных с коргантасским и карамолинским типами. На фоне немногочисленных захоронений, сплошь ограбленных и трудно поддающихся датировке, этот объект открывает определённую перспективу в изучении культуры позднесакского времени региона.
Центральный казахстан, могильник кызылжартас, сакская эпоха, тасмолинская культура, курган, погребальный обряд, радиоуглеродный анализ, ренгенофлюоресцентный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14131529
IDR: 14131529 | DOI: 10.53737/2713-2021.2024.10.75.006
Текст научной статьи Курган позднесакского времени в могильнике Кызылжартас (Центральный Казахстан)
№ 17. 2024
микрорайона (Варфоломеев 2019; 2022; Косинцев и др. 2020). В изучении поселенческих объектов первостепенное внимание уделяется эпохе бронзе. Помимо этого, в районе известны и поселения раннего железного века.
В предлагаемой статье вводятся в научный оборот результаты исследования материалов кургана № 2 могильника Кызылжартас. Радиоуглеродные даты памятника, результаты РФА золотых изделий и определения по костям животных из могильной ямы получены в 2023— 2024 гг. и публикуются впервые. Металлографический анализ железных изделий из кургана (Институт металлургии и обогащения, г. Алматы, Казахстан), предпринятый А.З. Бейсеновым, выполнен пока частично. Результаты этих работ планируется осветить в научной печати в ближайшем будущем.
Два крупных кургана могильника Кызылжартас расположены по линии ЗЮЗ—ВСВ. Курган № 2, занимающий западное положение, возведён почти впритык к кургану № 1 — расстояние между крайними конструкциями всего несколько метров. Как показывают многолетние исследования в Центральном Казахстане, однокультурные и одновременные насыпи располагаются на значительном расстоянии друг от друга, создавая относительно правильные цепочки. Планиграфическая особенность двух курганов мог. Кызылжартас ещё до начала исследований указывала на их разновременность, что подтвердили и материалы раскопок. На основе археологических данных и результатов радиоуглеродного анализа первый курган датирован ранним этапом тасмолинской культуры. Курган № 2 сооружён несколько веков спустя. По результатам 14С анализа, общий интервал калибровочных значений здесь укладывается в рамки периода 2-й пол. IV—II в. до н.э.
Таким образом, выяснилось, что отмеченная ещё до раскопок планиграфическая особенность двух курганов действительно связана с их хронологией. Предметы сопроводительного инвентаря кургана № 2 по своим особенностям выходят за рамки раннесакского периода и соответствуют указанной радиоуглеродной дате. При этом, в конструкции памятника мы видим ряд особенностей, которые характерны для раннесакских курганов.
В ходе исследования полностью вскрыта восточная половина насыпи с захватом околокурганного пространства (рис. 2). Затем был выбран центр и, далее, часть западного сектора. Значительная часть насыпи оставлена для дальнейших консервационных работ, что диктовалось требованиями со стороны заказчика раскопок курганов Кызылжартаса. Управлением культуры Карагандинской области в настоящее время проводятся мероприятия по созданию Талдинского археологического парка, в рамках которых предусмотрены масштабные работы не только по раскопкам памятников, но и по консервации и их сохранению (Бейсенов 2021а: 275).
Диаметр насыпи кургана № 2 — 34 м. Высота его понижается с севера и северо-запада к югу и юго-востоку. До раскопок наибольшая высота на севере составляла 2 м, на юге она равнялась 1,4 м. Насыпь окружена рвом, диаметр которого 50 м. До раскопок ширина рва на различных участках довольно чётко фиксировалась в пределах 3—4 м, при глубине до 0,2 м. Как показали обмеры после зачистки на уровне древнего горизонта, ров имеет подтреугольное сечение (рис. 2: А1, А2 ), ширина и глубина разнятся на севере, юге и востоке (табл. 1).
Наибольшие ширина и глубина рва отмечены на крайнем южном участке. Кроме того, юго-восточный сектор рва имеет ещё одну особенность. Здесь участок рва на протяжении 14 м заполнен обломками плит. Толщина плотного каменного слоя — до 1 м. На рисунке показан фрагмент этой каменной забутовки (рис. 2: А2 ). Ров, как и крепида насыпи, характерен и для курганов раннего этапа тасмолинской культуры, как и далеко за пределами Центрального Казахстана. В том числе известны факты закладки рва камнем, как и в нашем случае. Так, у кургана № 11 могильника Берел, относящегося к позднепазырыкскому времени, два рва, находящиеся с западной и восточной сторон насыпи, были заполнены галечником и мелкими обломками плит (Самашев 2011: 51).
№ 17. 2024
(Центральный Казахстан)
Примечательны два небольших кольцевидных сооружения, так же напоминающих околокурганные конструкции раннего этапа. По одной ритуальной выкладке находится на северной и южной периферии кургана, обе сооружены за рвом (рис. 2: А1 ). Северная выкладка состоит из восьми камней, размеры её 1,5 × 1,7 м. В южном сооружении сохранились пять камней, его параметры составляют 1,25 × 1,5 м. Такого рода ритуальные выкладки хорошо известны на околокурганных пространствах тасмолинских памятников, широко распространены они и в других регионах бытования культур скифо-сакского круга (Бейсенов 2015).
Следует особо оговорить большое ритуальное сооружение, находящееся сразу за восточным участком рва кургана № 2. Это выкладка в виде каменной площадки удлинённой формы (рис. 2: А1 ), знакомая нам из предыдущих работ по исследованию околокурганного пространства тасмолинских памятников Центрального Казахстана. Сооружение, ориентированное длинной осью с севера на юг, имеет размеры 6 × 17 м. Центр его занимают три каменных кольца, ориентированные в одну линию С—Ю. Диаметр их примерно одинаков: 3,3—3,4 м. Как кольца, так и всё сооружение в целом, выложены из крупных обломков плитняка. Внутри центрального кольца на древнем горизонте находились 26 фрагментов костей животных, уложенных компактно. Ещё пять небольших фрагментов костей были найдены за пределами колец. Все фрагменты относятся к костям крупного животного, предположительно лошади, а также мелкого рогатого скота. Это сооружение относится к кургану № 1, с восточной стороны которого ранее было вскрыто ещё одно такое же (Бейсенов 2021а).
Как указывалось (Бейсенов 2015), такого типа ритуальные сооружения характерны для тасмолинских курганов. Находятся они вблизи кургана, иногда попарно, как здесь, располагаясь с восточной и западной сторон насыпи. На территории могильника Серекты находилась одна выкладка, под которой были вскрыты тоже три кольца. Возле кургана № 2 могильника Нуркен 2 исследованы два таких сооружения. О них также говорят данные неисследованных могильников. Например, возле одного элитного кургана могильника Кызылмола А.З. Бейсеновым зафиксирована выкладка такого типа. С западной и восточной сторон самого крупного кургана могильника Бурлы (Борили), открытого авторами настоящей статьи, снова выявлены такие сооружения в паре.
Вокруг кургана № 2 могильника Кызылжартас таких сооружений, связанных непосредственно с этим объектом, нет. Возможно, в Центральном Казахстане традиция устройства усложнённого типа ритуальных выкладок во 2-й пол. I тыс. до н.э. сходит на нет.
Крепида кургана № 2 составлена из крупных обломков плит, уложенных в 3—4 слоя, имеет валообразное сечение. Лишь условно можно сказать, что от аналогичных конструкций ранее изученных крупных курганов Тасмолы она отличается некоторой грубостью в исполнении. Для элитных памятников предыдущего этапа более характерны уплощённые крепиды.
Диаметр крепиды по разрезу насыпи, проходящему по линии С—Ю, составляет 30,2 м. Обмеры ширины и высоты взяты в трёх секторах — на севере, юге и востоке (табл. 2).
На вскрытой части подкурганной площадки найдены менгир и каменное изваяние. При зачистке северной периферии разреза был обнаружен выступающий из нижнего слоя насыпи обломок плиты прямоугольных очертаний. В дальнейшем возле этой плиты (рис. 2: А1, А3, 3: 1 ) найдено грубо обработанное изваяние, плита же оказалась природной конкрецией. Изваяние (табл. 3), таким образом, оставлено под слоем насыпи на её северной периферии, в горизонтальном положении, на расстоянии 8 м от внутренней границы крепиды.
Менгир длиной 1,65 м, шириной и толщиной соответственно 0,32 и 0,28 м, был уложен поперёк крепиды, в восточном секторе (рис. 2: А1, А4 ).
Изваяние пополняет имеющуюся серию по Центральному Казахстану. В настоящее время число камней, связанных с территорией распространения тасмолинской культурной традиции, приближается к 30, с учётом рассматриваемой находки. Впрочем, четыре из них ранее были найдены в этом же могильнике, в кургане № 1 (Бейсенов 2021а). Антропоморф из кургана № 2
№ 17. 2024
грубого облика (рис. 3: 1 ), выполнен из серого гранита. Следы обработки фиксируются начиная с головы, особо сглажен правый бок по всей протяжённости куска гранита. Уши, нос, рот не показаны. Углублениями прямоугольных очертаний выделены оба глаза: правый — показан ямкой размерами 3 × 4,5 см, глубина 0,5 см. Левый глаз имеет размеры 3.5 × 3.5 см, глубина 0,8 см. Расстояние между глазами — 2,3 см. Основание камня скошено вниз влево.
Основу насыпи кургана № 2 составляет округлый вал (рис. 2: А1 , 4), сооружённый из камня и земли. В кургане № 1 при схожести ситуации выявлено отличие — там вал был сооружён из земли. Здесь же он состоит из двух соединений: первоначально был сооружён внутренний каменный вал, который, похоже, напоминал некоторое подобие стены высотой около 1,5 м. Затем к этой конструкции снаружи была добавлена земляная часть. Грунт для неё, щебёнистый, с песком, по-видимому, брали извне, может быть с побережья реки Талды, протекающей на расстоянии 1,7 км по прямой линии.
В стратиграфии насыпи, прослеженной по основному разрезу кургана, выделено шесть (1—6) отдельных слоёв (рис. 4). Мощность дернового слоя (1), весьма тонкого по периферии, в центре, сильно пониженном в результате ограбления, достигает до 0,35—0,4 м. Ниже залегает традиционный для курганов сакского времени Центрального Казахстана, а также и памятников многих соседних регионов, каменный слой (2). Его обычно называют «каменной рубашкой» или «каменным панцирем» (Бейсенов 2021а). Существует два типа оформления верхней части сакских курганов каменным слоем. Обычным считается полное покрытие поверхности насыпи обломками плит, встречается также немало случаев, когда вершина наземного сооружения оставляется свободной от камней, как, например, на кургане № 1 (Бейсенов 2021а). Как замечено, плотность слоя бывает разной, и это обстоятельство в ходе фиксации памятников и предварительного его описания иногда приводит к ошибочным суждениям о типе насыпи. В курганах, определённых к типу каменных на основании внешнего вида, таковым на самом деле может оказаться только его верхний слой.
В стратиграфии насыпи кургана № 2 первоначальное положение каменного слоя фиксируется на южном и северном участках, нетронутных в процессе ограбления.
Наружная, земляная, часть круглого вала была отмечена как слой 3. Каменная конструкция, допускаемая в качестве внутренней части вала, обозначена как слой 4.
В северном секторе над земляным слоем (3), насыщенным щебнем и песком, чётко фиксируется рассмотренный выше слой камня (2). Наличие нетронутого слоя камня позволяет уточнить характер залегающего ниже его земляного слоя (3). Первоначально, в ходе осмотра памятника, приподнятость северного участка насыпи трактовалась как результат ограбления могильной ямы, выброс из которой мог быть уложен большей частью в этом месте. Но наличие здесь верхнего каменного слоя, «панциря», явно нетронутого действиями грабителей, требует отказа от этого предположения. Похоже, северный возвышенный участок кургана является результатом работ древних строителей памятника.
В центре кургана хорошо фиксируются два земляных слоя, 5 и 6. Суглинистые заполнения этого сектора различаются лишь по цвету. Если первый слой имеет густой коричневый цвет, то для слоя 6 характерен более светлый оттенок. Светло-коричневый слой смешанного характера демонстрирует особенность заполнения периферийного участка грабительского вкопа.
На площади вскрытого сектора кургана, всего в 14-ти пунктах, найдены зубы, фрагменты костей домашних животных — остатки тризны. Два пункта относятся к северному и северовосточному участкам рва, в обоих находились зубы лошади. В остальных случаях фрагменты, в том числе и зубы, относятся к костям крупного животного, предположительно лошади, и мелкого рогатого скота. Общее количество найденных костей и зубов — 39.
Могильная яма кургана № 2 от центра смещена к западу. Это, можно сказать, явление, не раз встреченное в курганах тасмолинской культуры. Грабительский вкоп вверху имел очень широкое устье и на глубине примерно в 0,5—0,6 м, вскрыл значительную площадь
№ 17. 2024
Курган позднесакского времени в могильнике Кызылжартас (Центральный Казахстан)
пространства, заключённого внутри круглого каменно-земляного вала, и только затем сужался книзу. Это обстоятельство создаёт ощущение того, что грабители знали о большой глубине могилы и старались избежать трудностей слишком тесного и узкого тоннеля.
Могильная яма, длинной осью ориентированная по линии ЮЗ—СВ, вверху, на древнем горизонте, имеет размеры 2 × 3,5 м. Примерно на глубине 2,4 м яма сужается более существенно и в придонной части, на глубине 3,12 м, имеет размеры 1,35 × 3,1 м. Форма могилы — подпрямоугольная с закруглёнными углами. Надмогильная конструкция, свойственная курганам сакского времени Центрального Казахстана, полностью разрушена. По-видимому, она представляла собой небрежно выполненную выкладку из 3—4 слоёв плит, имела ту же форму, что и могила. Она закрывала весь периметр могилы, отступая от её краёв ещё примерно на 0,4—0,5 м. Северо-восточный край развала этого сооружения в стратиграфии отмечен как слой 7 (рис. 4). Сделано предположение о том, что нижний край надмогильной выкладки был углублен в заполнение ямы, возможно, на глубину около 0,5—0,7 м. Плиты нижней части выкладки, по-видимому, осели в яму ещё до ограбления, многие камни оказались в заполнении (рис. 3: 2 ) в процессе проникновения в могилу.
На разных уровнях заполнения могилы найдены разрозненные кости человека, животных, как и их обломки. Кости животных начали попадаться на глубине 0,7 м от уровня древнего горизонта. Все кости от человеческого скелета найдены в нижней части заполнения — начиная с глубины 2 м. От черепа погребённого остался крупный обломок свода, в дальнейшем распавшийся на две части по саггитальному шву, и фрагмент от нижней челюсти. Судя по сохранившимся зубам (рис. 5: 1 ), череп принадлежал человеку молодого возраста. Из костей скелета найдены ещё семь: лучевая кость (1), фрагментированые рёбра (2), трубчатые кости (3), обломок таза (1). Ориентировка погребённого не установлена.
Из предметов сопроводительного инвентаря найдены остатки железных изделий, в числе которых особо значимы два фрагмента сосуда (рис. 3: 3 ) и нож, золотые украшения, фрагменты керамики, а также одна маленькая бронзовая скоба. Все указанные предметы находились в придонной части могилы, начиная с глубины 2,9 м.
Из костей человека и животного, найденных в заполнении могилы в ходе вскрытия захоронения, были здесь же, в полевых условиях, отобраны два образца (рис. 5) для последующего радиоуглеродного анализа. Исследования были проведены в 2023 г. в лаборатории г. Вильнюса, Литва (табл. 4; рис. 5).
Образец 1. Кызылжартас, курган № 2. Раскопки 2021 г. Фрагмент нижней челюсти человека (рис. 5: 1 ). Могильная яма, центральная часть. Глубина 2,92 м от уровня древнего горизонта. Подготовлена проба, вес 2,2 г.
Образец 2. Кызылжартас, курган № 2. Фрагмент ребра лошади (рис. 5: 2 ). Могильная яма. Вдоль юго-восточной длинной стены могилы. Глубина 2,64 м от уровня древнего горизонта. Подготовлена проба, вес 3,2 г.
Уцелевшие от грабителей находки по своим особенностям не противоречат полученным радиоуглеродным датам кургана.
Железные изделия в настоящее время проходят стадию металлографического анализа. К моменту подготовки статьи завершено исследование одного венчика железного сосуда, в ближайшее время, по окончании анализов, планируется публикация этих данных. Как оказалось, железный сосуд сделан из листа толщиной 2 мм, подготовленного, в свою очередь, из крицы. Ниже венчика имеется орнамент в виде горизонтальной полоски жёлтого цвета. Вещество, из которого приготовлена жёлтая «краска», определено как бурый известняк — лимонит.
В настоящее время начата публикация результатов металлографического анализа железных изделий из памятников Центрального Казахстана (Бейсенов и др. 2023а; 2023б). Ожидаемые результаты по находкам из кургана № 2 могильника Кызылжартас, надо надеяться, пополнят эти данные.
№ 17. 2024
В заполнении могилы найдено 57 золотых изделий, подразделяющихся на семь типов (рис. 7):
-
1) украшение, напоминающее лунницу, крепилось к основе с помощью четырёх отверстий, размеры 3 × 3,3 см, 1 шт. (рис. 6: 1 );
-
2) кольцо или обойма, диаметр 1,5 см, 1 шт. (рис. 6: 2 );
-
3) четырёхлучевые, или крестовидные, накладки, фрагментированные, с одним отверстием на каждом луче, размеры сохранившейся части около 1,9 × 2,9 см, 2 шт. (рис. 6: 3 );
-
4) трёхлепестковые бляшки полусферические, размеры 1,2 × 1,4 см, 3 шт. (рис. 6: 4 );
-
5) полусферические бляшки, диаметр основания 0,7 см, высота 0,3 см, 4 шт. (рис. 6: 5 );
-
6) трубочковидные пронизи гофрированные, длина 0,7 см, диаметр 0,4 см, 31 шт. (рис. 6: 6 );
-
7) трубочковидные пронизи гладкие, длина 0,7 см, диаметр 0,3 см, 2 шт. (рис. 6: 7 ).
Кроме этого, ещё 13 изделий представлены в виде сломанных лучей от вышеуказанных крестовидных накладок. Украшения выполнены из золотого листа, излюбленного материала сакских зергеров (ювелиров).
Все изделия, являющиеся украшением одежды, найдены разбросанными в разных углах могилы. Основная часть предметов, как следует предполагать, унесена грабителями. Ввиду этого, определить систему их расположения на одежде погребённого невозможно.
Из материалов более позднего погребения в Украине интересна комбинация нашивных украшений с трубочковидными пронизями. Золотые нашивные бляшки и пронизи из сарматского погребения кургана Соколова Могила, раскопанного на Южном Буге (Николаевская обл., Украина), составляли орнаментальные полосы женского платья, реконструкция которого была предложена в 1986 г. Г.Т. Ковпаненко (1986). Согласно этой реконструкции, поддержанной затем И.П. Засецкой в работе, посвящённой материалам кургана Хохлач (Ростовская обл., РФ) (Засецкая 2011), пронизи крепились на краях орнаментальной полосы. По данным из южнобугского погребения, полоска из золотых нашивок располагалась на платье в горизонтальном положении и пронизи крепились сверху и снизу, обрамляя её с двух сторон (Ковпаненко 1986: 115, рис. 122). Оба кургана датируются I в. н.э.
В памятниках позднесарматского времени, периода великого переселения народов находят много золотых украшений, зачастую их ранние прототипы можно видеть в комплексах предыдущей эпохи. Предмет в виде полумесяца из мог. Кызылжартас типологически близок аналогичным украшениям периода великого переселения народов (Мастыкова 2009: 65—66, рис. 49: 4—15 ; Габуев 2014: 63—64, рис. 22: 3, 8 ; 43: 4 ; Комар 2000, рис. 5: 40, 42 ). Лунниц этого периода в могилах находят по одному экземпляру или же единицами и, в большинстве случаев, трактуют их в качестве украшения для обуви (Мастыкова 2009).
Такая ситуация обычна также и в отношении тех же полусферических бляшек, нашивок в виде сгруппированных лепестков, мелких трубчатых пронизей, как рифлёных, так и гладких.
Повсеместно много фактов находок такого рода мелких золотых изделий, представленных как единичными экземплярами, так и их группами, декорировавших головные уборы, участки одежды, обуви. Например, 25 полусферических бляшек сходного облика были найдены в районе черепа ребёнка в могиле 1 кургана «Б» мог. Прохоровка, раскопанного Л.Т. Яблонским (2010: 20, 214, кат. 550—593). Бляшки, по-видимому, украшали головной убор. Изделия довольно крупные, диаметр их 1,4 см. Большое количество таких же бляшек от головного убора молодой женщины, найдено также в погребении 3 этого же кургана (Яблонский 2010: 22, рис. 18: 1; 2008: 26, рис. 2). Диаметр этих бляшек уже значительно меньше, чем в первом случае, 0,6— 0,8 см. Оба погребения датированы периодом третьей четверти IV — 1-й пол. III в. до н.э.
Обзор данных показывает, что находки из кургана № 2 могильника Кызылжартас следует связать с материалами памятников позднесакского времени Казахстана и соседних регионов, имевших в древности интенсивные этнокультурные контакты с сакским миром (Пшеницына, Поляков 1989; Могильников 1997; Кирюшин, Фролов 1998).
№ 17. 2024
(Центральный Казахстан)
Интересны многочисленные находки золотых украшений в памятниках чирик-рабадской культуры Восточного Приаралья. Здесь бляшки и пронизи, аналогичные находкам из мог. Кызылжартас, были найдены ещё в ранних работах Хорезмской экспедиции (Толстов 1962: рис. 81). В ходе новых исследований, начатых под руководством Ж. Курманкулова, количество находок золотых украшений значительно возросло. Материалы эти полностью ещё не опубликованы. Согласно устной информации, переданной авторам Ж.Р. Утубаевым, в ограбленных погребениях чирик-рабадской культуры, датируемой в рамках IV—II вв. до н.э., золотых украшений от одеяния найдено уже порядка нескольких сотен. Среди этих материалов есть те же мелкие пронизи, рифлёные и гладкие, а также полусферические бляшки, украшение в виде лунницы (рис. 8) (Утубаев 2013; Дарменов, Утубаев 2017; Курманкулов и др. 2020). Знакомство с фотоматериалами, любезно предоставленными Ж.Р. Утубаевым, показывает прямое сходство этих украшений с изделиями из Кызылжартаса* (*Авторы выражают признательность Ж.Р. Утубаеву за консультации по памятникам и материалам Чирик-Рабата).
Говоря о чирик-рабадских аналогиях, следует особо отметить материалы кургана 1 мог. Байкара, исследованного в Северном Казахстане казахско-германской экспедицией (Парцингер и др. 2003). В ограбленном погребении II—I вв. до н.э., впущенном в курган сакского времени, также найдены предметы, имеющие прямые аналогии с находками из Кызылжартаса. Это те же золотые рифлёные и гладкие пронизи, лунница, полусферические бляшки (Парцингер и др. 2003: рис. 66, 71, 72; табл. 16: 1—27 ; 17: 1—22 ; 19: 1—3 6; 20: 1—36 ; 22: 7 ). Приведя ряд аналогий (Парцингер и др. 2003: 213—217) находкам из элитного захоронения сарматского времени, исследователи подчеркивают приаральское направление связей, указывая на многочисленные украшения, найденные в памятниках чирик-рабадской культуры. Особо отмечается близость фрагментов гончарных сосудов (Парцингер и др. 2003: 213, табл. 21: 20—23 ).
В рассмотрении материалов позднесакского кургана № 2 могильника Кызылжартас важное значение имеют данные кургана Иссык, исследованного К.А. Акишевым (Акишев 1978; 1984), и таких памятников, как могильники Локоть-4а (Шульга 2003), Бугры (Тишкин 2012; Чугунов 2014; 2017).
Материалы названных памятников, как и чирик-рабадской культуры, способствуют выяснению ряда особенностей кургана № 2 могильника Кызылжартас. Это касается и вопроса даты последнего, и предполагаемого статуса погребённого, связанного с таким ярким феноменом, как золотое одеяние представителей правящей верхушки, элитных воинов в среде древних степных скотововодов.
В 2024 г. семь золотых изделий из мог. Кызылжартас были подвергнуты элементному анализу в лаборатории Казахстанско-Британского технического университета (г. Алматы) (табл. 5). Исследования были проведены на рентгенофлуоресцентном анализаторе Innov-X Systems α-6500, производство США.
Кроме меди и железа, в трёх предметах присутствует хром. В целом, изделия из Кызылжартаса, по-видимому, изготовлены из природного золота. Помимо определения состава металла, приёмов в изготовлении тех или иных изделий, специалисты всё настойчивее обращают внимание и на такую проблему, как поиск источников сырья (Кузнецова, Мадина 1990; Тишкин, Хаврин 2008; Бейсенов и др. 2011; Тишкин и др. 2013; Минасян 2014; 2018; Зайков и др. 2015б; Таиров, Зайков 2015; Армбрустер 2017; Щербаков, Рослякова 2000).
Интересны в этом отношении результаты работ, направленных на выявление предполагаемых источников золота. Как показывают материалы Саяно-Алтая, жители региона использовали местные источники, добывая или получая сырьё на доступном расстоянии. Такая же ситуация имеет место и в Казахстане (Бейсенов и др. 2011; Самашев 2011; Толеубаев 2018). Вопросы, касающиеся отличения легированного золота от природного на основании процентного соотношения компонентов, решаются, по-видимому, не вполне однозначно.
№ 17. 2024
В ряде работ для выявления природного золота исходной точкой берётся тот рубеж, когда медь в составе изделия содержится на уровне менее 2% (Зайков и др. 2015а: 8; 2016: 83), выше которого уже следует говорить о легировании. Речь идёт об изысканиях, где основанием для выводов служит значительный объём материала. Тем не менее, такое определение, вероятно, сложно использовать во всех случаях в качестве своеобразного эталона.
Исследователи обращают внимание на такой важный нюанс: пробность золота в древних украшениях связана с хронологией памятника и, с другой стороны, социальным фактором. Согласно результатам исследований, золото высокой и очень высокой пробности характерно прежде всего для элитных курганов раннего этапа сакской эпохи (Марсадолов и др. 2013; Толеубаев 2018). Если учесть такие данные, как параметры и особенности сооружения, состав золотых изделий и дату памятника, такие выводы, в целом, подтверждаются на материалах кургана № 2 могильника Кызылжартас. Пробность золота здесь средняя, в пределах 780—880, что представляется довольно высокой для кургана позднесакского времени. В современных исследованиях золотых изделий раннего железного века Центрального Казахстана актуальным является создание базы данных.
Фрагментов керамики всего 17, из которых два найдены в юго-западной половине могилы на глубине 0,4—0,5 м, все остальные — в придонной части, в разбросанном виде. Толщина их 2—2,7 см, цвет чёрный. Судя по сохранившимся фрагментам, возможно, здесь находилось две ёмкости (рис. 9: 1, 2 ): небольшая чаша с диаметром устья около 12,5 см и баночный сосуд с диаметром дна 13 см. Не исключено, что фрагменты принадлежат одному сосуду, имевшему кубковидную форму.Вопросы оставления сосудов в курганах сакской эпохи Центрального Казахстана остаются малоизученными. Керамика в тасмолинских курганах раннего периода рассматривалась в предыдущих публикациях, с обзором некоторых материалов раннескифского времени Саяно-Алтая (Бейсенов и др. 2021). Отметим, что обширная сводка данных по Алтаю имеется в работах П.И. Шульги (2015). Фрагменты керамики из кургана № 2 могильника Кызылжартас не дают представления о первоначальном положении сосудов. В ранних курганах тасмолинской культуры глиняные сосуды и их фрагменты связаны с наземной частью погребального сооружения, а в могилу они попадают в результате ограбления.
В могильной яме кургана №2 найдено свыше 40 костей и их фрагментов, относящихся к домашним животным. Свыше 30 костей определены до вида П.А. Косинцевым* (*Авторы выражают признательность П.А. Косинцеву, выполнившему археозоологический анализ остеологической коллекции, полученной в ходе раскопок кургана № 2.) Все они относятся к двум особям лошади и двум особям овцы. Выделены группы костей, указывающих на две разновидности ритуала.
Рёбра правой грудной клетки лошади свыше 6 лет и кости обеих передних ног овцы 2—3,5 лет, отрезанные вместе с лопаткой и предплечьем, были положены в качестве напутственной пищи. Одна часть рёбер лошади была отрезана от позвонка, а другая — отделена от позвонка со следами отрубания.
В отличие от них, три фрагмента от правой лучевой кости лошади свыше 3,5 лет и три фрагмента правых плечевой, лучевой и плюсневой костей овцы неопределённого возраста являются остатками поминальной тризны.
В целом, материалы кургана № 2 могильника Кызылжартас не оставляют сомнений в элитном статусе погребённого. Как было сказано, эти данные указывают на особенности многих памятников Казахстана и сопредельных регионов, относящихся к позднесакскому периоду. Приведённые выше категории золотых предметов распространены очень широко и могли быть по-разному использованы на одежде. Лунница из памятника Чирик-Рабат исследователями трактуется как подвеска в нижней части ожерелья, состоящего из многих других пронизок. В кургане Иссык найдено 108 украшений «в виде полумесяца», которые, как и 103 рифлёных пронизи, нашивались на одежду (Акишев 1978: 27, илл. 37). Лунница,
№ 17. 2024
(Центральный Казахстан)
крестовидные и трёхлепестковые нашивки из мог. Кызылжартас выпуклые, имеют края, загнутые вниз. Вероятно, эти украшения имели твёрдую основу, повторяющую их форму. В таких случаях действительно создавалась «видимость цельнометаллического изделия» (Шульга 2003: 67).
Обращает на себя внимание отсутствие в ограбленной могиле кургана № 2 плоских нашивок маленьких размеров, миниатюрных бляшек, аппликаций, таких мельчайших деталей одежды, как бисер. Подобные украшения являются повсеместными атрибутами золотых одеяний сакской эпохи, их находят и в ограбленных погребениях. Многочисленные мельчайшие украшения одежды, исчисляющиеся десятками тысяч, как известно, были характерны для парадных костюмов раннесакского времени.
В сильно ограбленном кургане № 1 мог. Кызылжартас, относящемся к раннему этапу тасмолинской культуры, сохранились мелкие детали украшения парадной одежды. Помимо 25 золотых спиралей длиной 7,8 см, к таковым относятся 346 мелких обойм, длина сторон которых составляет более 2 мм (Бейсенов 2021а). Все эти украшения найдены в области ног погребённого ниже коленного сустава.
Курганы № 1 и 2 мог. Кызылжартас демонстрируют, соответственно, особенности самого начального этапа и периода завершения сакской эпохи Центрального Казахстана. Курган № 1 на основании радиоуглеродной даты по образцу, взятому из нижней челюсти погребённого, датируется, по меньшей мере, 1-й четв. VIII в. до н.э. (Бейсенов 2023). В настоящее время по этому памятнику выполняется второй анализ на 14С, теперь уже по образцу, взятому из малоберцовой кости погребённого.
Курган № 2 мог. Кызылжартас датируется в рамках 2-й пол. IV—II в. до н.э. На основании анализа находок, возможно в будущем сужение даты до 2-й пол. IV—III в. до н.э. В настоящее время этот период в исследовании культуры сакской эпохи Центрального Казахстана является малоизученным. Уже обращалось внимание на то обстоятельство, что ко 2-й пол. I тыс. до н.э. количество памятников тасмолинской культуры уменьшается. Помимо прочего, это положение было замечено и по результатам радиоуглеродных анализов (Бейсенов 2018), полученных по значительному числу объектов.
Полное рассмотрение ситуации с памятниками позднесакской эпохи в Центральном Казахстане выходит за рамки настоящего сообщения, вкратце отметим лишь некоторые нюансы. Исследованный курган сложно сравнить с памятниками карамолинского круга (Бейсенов 2015а), в том числе и в силу географического фактора. Резко отличается он и от коргантасских памятников (Бейсенов 2017).
В число объектов карамолинского типа входят, помимо исследованных погребений из одноимённого могильника, ряд захоронений из ранних раскопок М.К. Кадырбаева в районе Шубартау, тяготеющего к северо-восточному Прибалхашью, а также, по всей вероятности, курганы из групп Тасарал (Бейсенов и др. 2016). Все эти памятники очерчивают восточную и юго-восточную окраины Центрального Казахстана, откуда однозначно далеко отстоит могильник Кызылжартас. Хронология описанного кургана напрямую совпадает с датой объектов коргантасского типа. Вместе с тем, в культурном отношении он не может быть связан с ними. Присутствие здесь коргантасского погребения однозначно ставит дальнейшие исследовательские задачи по вопросам уточнения хронологии памятников, сосуществования их типов, выяснения общей картины расселения групп позднесакского периода на обширной территории Центрального Казахстана.
Рассмотренный курган, таким образом, относится к группе памятников позднесакского времени Центрального Казахстана, не связанной с коргантасской и карамолинской культурными традициями. На фоне немногочисленных захоронений, сплошь ограбленных и трудно поддающихся датировке, курган № 2 могильника Кызылжартас, материалы которого показывают ряд особенностей погребального обряда раннего этапа, открывает важную перспективу в области изучения культуры позднесакского периода данного региона.
№ 17. 2024
Список литературы Курган позднесакского времени в могильнике Кызылжартас (Центральный Казахстан)
- Акишев А.А. 1984. Искусство и мифология саков. Алма-Ата: Наука.
- Акишев К.А. 1978. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. Москва: Искусство.
- Армбрустер Б. 2017. Предметы ювелирного искусства. В: Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск: ИАЭт, 186—201.
- Бейсенов А.З. 2015. Околокурганные жертвенники как разновидность памятников тасмолинской культуры. Вестник Томского государственного университета. История 4, 96—104.
- Бейсенов 2015а: Бейсенов А.З. 2015. О памятниках карамолинского типа в Восточной Сарыарке (вторая половина I тыс. до н.э.). Вестник Новосибирского государственного университета. Серия История. Филология. Т. 13. Вып. 7, 68—79.
- Бейсенов А.З. 2017. Коргантасские погребения в Центральном Казахстане. В: Базаров П.В., Крадин Н.Н. (отв. ред.). Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: материалы 2 международной научной конференции, посвященной 80-летию д.и.н., проф. П.Б. Коновалова. Улан-Удэ: Бурятский гос. ун-т, 103—108.
- Бейсенов А.З. 2018. Тасмолинская культура Центрального Казахстана в исследованиях начала XXI века. АДІУ 2, 386—396.
- Бейсенов 2021а: Бейсенов А.З. 2021. Тасмолинский курган с каменными изваяниями в могильнике
- Кызылжартас. В: Смирнов Н.Ю. (отв. ред.). Творец культуры. Материальная культура и духовное пространство человека в свете археологии, истории и этнографии: сборник научных статей, посвященных 80-летию проф. Д.Г. Савинова и 60-летию его труда на ниве отечественной науки. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 261—277.
- Бейсенов 2021б: Бейсенов А.З. 2021. Тасмолинское каменное изваяние в урочище Аумаган, Центральный Казахстан. Уфимский археологический вестник 1, 21—37.
- Бейсенов А.З. 2023. Тасмолінський курган з кам’яними скульптурами у могильнику Кизилжартас: результати радіовуглецевого аналізу. В: Задніков С., Панковський В., Шрамко І. (отв. ред.).
- Мистецька стилістика, техніка та змістовність за доби раннього заліза Євразії. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна; Майдан; Котельва: ІКЗ Більськ, 54—68.
- Бейсенов и др. 2021: Бейсенов А.З., Ломан В.Г., Шашенов Д.Т. 2021. Керамика из новых курганов тасмолинской культуры. Нижневолжский археологический вестник 1, 6—20.
- Бейсенов и др. 2023а: Бейсенов А.З., Паничкин А.В., Горащук И.В., Шашенов Д.Т. 2023. Кинжал иссыкского типа из Темирши, Центральный Казахстан: результаты металлографического, химического и трасологического анализов. Stratum plus 3, 255—265.
- Бейсенов и др. 2023б: Бейсенов А.З., Паничкин А.В., Шашенов Д.Т. 2023. Железный топор из тасмолинского кургана могильника Кызылжартас: результаты металлографического и химического анализов. МАИАСП 15, 102—120.
- Бейсенов и др. 2011: Бейсенов А.З., Таиров А.Д., Зайков В.В., Блинов И.А. 2011. Состав золотых изделий из могильника Талды-2. В: Бейсенов А.З. (отв. ред.). Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии. Тезисы докладов Международного Круглого стола, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан. Караганда: НИЦИА «Бегазы-Тасмола», 21—25.
- Бейсенов А.З., Шашенов Д.Т. 2022. Археологические исследования на могильнике Кызылжартас в 2021 г. В: Касенали А. (отв. ред.). Археологические исследования в Казахстане. 2021. Астана: Национальный музей РК, 228—234.
- Бейсенов и др. 2016: Бейсенов А.З., Шашенов Д.Т., Дуйсенбай Д.Б., Ахияров И.К., Кулькова М.А. 2016. Радиоуглеродные даты из могильника сакского времени Тасарал 3 (Центральный Казахстан). Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры 5, 256—264.
- Варфоломеев В.В. 2019. Поселения Талдинского археологического микрорайона. Предварительные результаты исследований. В: Хабдулина М.К. (отв. ред.). Маргулановские чтения-2019: материалы Международной археолической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения выдающегося казахского археолога К.А. Акишева. Нур-Султан: Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева, 74—87.
- Варфоломеев В.В. 2022. Металлообрабатывающая мастерская на поселении Аккезен, Центральный Казахстан. Археология Евразийских степей 2, 225—244.
- Габуев Т.А. 2014. Аланские княжеские курганы V в. н.э. у села Брут в Северной Осетии. Владикавказ: Институт истории и археологии.
- Дарменов Р.Т., Утубаев Ж.Р. 2017. Подбойный тип погребальных сооружений на городище Чирик Рабат. Известия НАН РК. Серия обществ. и гум. наук 1, 25—33.
- Зайков и др. 2015а: Зайков В.В., Таиров А.Д., Зайкова Е.В. 2015. Геоархеология благородных металлов Центральной Евразии. В: Зайков В.В. (отв. ред.). Геоархеология и археологическая минералогия-2015: материалы Всероссийской молодежной научной школы. Миасс: Имин УрО РАН, ЮУрГУ, 5—14.
- Зайков и др. 2015б: Зайков В.В., Чугунов К.В., Юминов А.М., Зайкова Е.В., Котляров В.А. 2015. Состав золотых изделий из погребально-поминального комплекса Аржан-2 (Тува) и вероятные источники металла. В: Зайков В.В. (отв. ред.). Геоархеология и археологическая минералогия-2015 материалы Всероссийской молодежной научной школы. Миасс: Имин УрО РАН, ЮУрГУ, 142—149.
- Зайков и др. 2016: Зайков В.В, Филиппова К.А., Удачин В.Н., Зайкова Е.В., Рассомахин М.А., Крайнев Ю.Д. 2016. Сравнительный анализ состава золотой фольги из археологических памятников Алтая, Урала, Подонья (по данным ICP-MS и XRF). Минералогия 2, 82—92.
- Засецкая И.П. 2011. Сокровища кургана Хохлач. Новочеркасский клад. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Кирюшин Ю.Ф., Фролов Я.В. 1998. Комплекс памятников эпохи раннего железа в районе с. Елунино. В: Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л. (отв. ред.). Древние поселения Алтая. Барнаул: Алтайский университет, 110—136.
- Ковпаненко Г.Т. 1986. Сарматское погребение I в. н.э. на Южном Буге. Киев: Наукова думка.
- Комар А.В. 2000. Актуальные проблемы хронологии материальной культуры гуннского времени Восточной Европы. Степи Европы в эпоху средневековья 1, 19—53.
- Косинцев П.А., Варфоломеев В.В., Кисагулов А.В. 2020. Новые материалы по животноводству населения Казахского мелкосопочника в конце эпохи бронзы. В: Байтанаев Б.А. (отв. ред.). Маргулановские чтения-2020: материалы Международной конференции «Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных исследований». Алматы: ИА КН МОН РК, 169—179.
- Кузнецова Э.Ф., Мадина С.Ш. 1990. Исследование древнего золота Казахстана. СА 2, 136—148.
- Курманкулов и др. 2020: Курманкулов Ж., Утубаев Ж., Суиндикова С., Касенова А. 2020. Некоторые результаты исследования на комплексе Чирик-Рабат 4 (по материалам раскопок 2017 г.). В:
- Байтанаев Б.А. (отв. ред.). Маргулановские чтения-2020: материалы Международной конференции «Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных исследований». Алматы: ИА КН МОН РК, 274—285.
- Маргулан А.Х. 1979. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука.
- Маргулан и др. 1966: Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К. Оразбаев А.М. 1966. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука.
- Марсадолов и др. 2013: Марсадолов Л.С., Хаврин С.В., Гук Д.Ю. 2013. Проба древнего золота Казахстана и Саяно-Алтая как временной и социальный индикатор. Теория и практика археологических исследований 2, 129—141.
- Мастыкова А.В. 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV—середине VI вв. н.э. Москва: ИА РАН.
- Минасян Р.С. 2014. Металлообработка в древности и средневековье. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Минасян Р.С. 2018. Технология и некоторые вопросы техники изготовления золотых украшений из кургана Байгетобе некрополя Шиликты. В: Толеубаев А.Т. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: Садвакасов А.К., 390—403.
- Могильников В.А. 1997. Население Верхнего Приобья в середине — второй половине I тысячелетия до н.э. Москва: Пущинский научный центр.
- Парцингер и др. 2003: Парцингер Г., Зайберт В., Наглер А., Плешаков А. 2003. Большой курган Байкара. Исследование скифского святилища. Майнц: Германский археологический институт (на русск., нем. яз.).
- Пшеницына М.П., Поляков А.С. 1989. Погребения родоплеменной знати тагарского общества на юге Хакасии. КСИА 196, 58—66.
- Самашев З. 2011. Берел. Алматы: Таймас.
- Таиров А.В., Зайков В.В. 2015. Золотые изделия археологических памятников Центральной Евразии. В: Зайков В.В. (отв. ред.). Геоархеология и археологическая минералогия-2015: материалы Всероссийской молодежной научной школы. Миасс: Имин УрО РАН, ЮУрГУ, 14—27.
- Тишкин А.А. 2012. Значение археологических исследований крупных курганов скифо-сарматского времени на памятнике Бугры в предгорьях Алтая. В: Blajer W. (red.). Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa, Joanni Chochorowski dedicatae. Krakow: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellonskiego, 501—510.
- Тишкин и др. 2013: Тишкин А.А., Зайков В.В., Хворов П.В., Зайкова Е.В. 2013. Состав золотых изделий из памятника Яломан II и проблема поиска древних источников золота. В: Тишкин А.А (отв. ред.). Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: АлтГУ, 98—102.
- Тишкин А.А., Хаврин С.В. 2008. Рентгенеофлюоресцентный анализ золотых изделий из памятника Бугры (северо-западные предгорья Алтая, скифо-сакское время). В: Деревянко А.П., Макаров А.Н. (отв. ред.). Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. Москва: ИА РАН, 82—85.
- Толеубаев А.Т. 2018. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: Садвакасов А.К.
- Толстов С.П. 1962. По древним дельтам Окса и Яксарта. Москва: Восточная литература.
- Утубаев Ж.Р. 2013. Погребальные сооружения Баландинского оазиса. Известия НАН РК. Серия. общественных и гуманитарных наук 3, 25—32.
- Чугунов К.В. 2014. Захоронения «золотых людей» в традиции номадов Евразии (Новые материалы и некоторые аспекты исследований). В: Хабдулина М.К (отв. ред.). Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Астана: Сарыарка, 714—725.
- Чугунов К.В. 2017. Исследования кургана 1 в могильнике Бугры в предгорьях Алтая. Археологический сборник Государственного Эрмитажа 41, 126—142.
- Щербаков Ю.Г., Рослякова Н.В. 2000. Состав золотых изделий, источников металла и способов их обработки. В: Деревянко А.П., Молодин В.П. (отв. ред.). Феномен Алтайских мумий. Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 179—187.
- Шульга П.И. 2003. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул: АлтГУ.
- Шульга П.И. 2015. Скотоводы Горного Алтая в скифское время (по материалам поселений). Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т.
- Яблонский Л.Т. 2008. Сарматы Южного Приуралья. В: Яблонский Л.Т. (отв. ред.). Сокровища сарматских вождей. Материалы раскопок Филипповских курганов. Оренбург: Димур, 17—33.
- Яблонский Л.Т. 2010. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. Москва: Таус.
- Тишкин А.А. 2012. Значение археологических исследований крупных курганов скифо-сарматского времени на памятнике Бугры в предгорьях Алтая. В: Blajer W. (red.). Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa, Joanni Chochorowski dedicatae. Krakow: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellonskiego, 501—510.
- Тишкин и др. 2013: Тишкин А.А., Зайков В.В., Хворов П.В., Зайкова Е.В. 2013. Состав золотых изделий из памятника Яломан II и проблема поиска древних источников золота. В: Тишкин А.А (отв. ред.). Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: АлтГУ, 98—102.
- Тишкин А.А., Хаврин С.В. 2008. Рентгенеофлюоресцентный анализ золотых изделий из памятника Бугры (северо-западные предгорья Алтая, скифо-сакское время). В: Деревянко А.П., Макаров А.Н. (отв. ред.). Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Т. II. Москва: ИА РАН, 82—85.
- Толеубаев А.Т. 2018. Раннесакская шиликтинская культура. Алматы: Садвакасов А.К.
- Толстов С.П. 1962. По древним дельтам Окса и Яксарта. Москва: Восточная литература.
- Утубаев Ж.Р. 2013. Погребальные сооружения Баландинского оазиса. Известия НАН РК. Серия. общественных и гуманитарных наук 3, 25—32.
- Чугунов К.В. 2014. Захоронения «золотых людей» в традиции номадов Евразии (Новые материалы и некоторые аспекты исследований). В: Хабдулина М.К (отв. ред.). Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Астана: Сарыарка, 714—725.
- Чугунов К.В. 2017. Исследования кургана 1 в могильнике Бугры в предгорьях Алтая. Археологический сборник Государственного Эрмитажа 41, 126—142.
- Щербаков Ю.Г., Рослякова Н.В. 2000. Состав золотых изделий, источников металла и способов их обработки. В: Деревянко А.П., Молодин В.П. (отв. ред.). Феномен Алтайских мумий. Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 179—187.
- Шульга П.И. 2003. Могильник скифского времени Локоть-4а. Барнаул: АлтГУ.
- Шульга П.И. 2015. Скотоводы Горного Алтая в скифское время (по материалам поселений). Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т.
- Яблонский Л.Т. 2008. Сарматы Южного Приуралья. В: Яблонский Л.Т. (отв. ред.). Сокровища сарматских вождей. Материалы раскопок Филипповских курганов. Оренбург: Димур, 17—33.
- Яблонский Л.Т. 2010. Прохоровка. У истоков сарматской археологии. Москва: Таус.