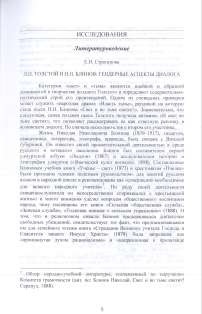Л. Н. Толстой и Н. Н. Блинов: гендерные аспекты диалога
Автор: Строганова Евгения Нахимовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2005 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена "диалогу" творчества Л.Н. Толстого и Н.Н. Блинова. Категории "свет" и "тьма" являются идейной и образной доминантой в творчестве позднего толстого и определяют содержательно-поэтический строй его произведений. Одним из очевидных примеров может служить "народная драма""Власть тьмы", репликой на которую стала пьеса Н.Н. Блинова "Свет и во тьме светит!". Знаменательно, что следующая, самая поздняя пьеса Толстого получила название "И свет во тьме светит", что позволяет рассматривать её как ответную реплику в возникшем диалоге.
Категории "свет" и "тьма" в творчестве л.н толстого и н.н. блинова, гендер
Короткий адрес: https://sciup.org/146120405
IDR: 146120405 | УДК: 8.92:821.161.1-2+929Толстой+929Блинов
Текст научной статьи Л. Н. Толстой и Н. Н. Блинов: гендерные аспекты диалога
Л.Н. ТОЛСТОЙ И Н.Н. БЛИНОВ: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА
Категории «свет» и «тьма» являются идейной и образной доминантой в творчестве позднего Толстого и определяют содержательно-поэтический строй его произведений. Одним из очевидных примеров может служить «народная драма» «Власть тьмы», репликой на которую стала пьеса Н.Н. Блинова «Свет и во тьме светит!». Знаменательно, что следующая, самая поздняя пьеса Толстого получила название «И свет во тьме светит», что позволяет рассматривать ее как ответную реплику в возникшем диалоге. Но сначала несколько-слов о втором его участнике.
Жизнь Николая Николаевича Блинова (1839-1917), педагога, священника, литератора, этнографа, краеведа, была связана с Вятской губернией. Он известен своей просветительской деятельностью в среде русского и вотяцкого населения. Блинов был составителем первой удмуртской азбуки «Лыдзон» (1867) и исследователем истории и этнографии удмуртов («Языческий культ вотяков», 1898). Составленные Блиновым учебная книга «Ученье - свет» (1873) и хрестоматия «Пчелка» были признаны «самым полезным руководством» для занятий русским языком в народной школе и рекомендованы как «совершенно необходимые для всякого народного учителя» . По роду своей деятельности священнослужителя он непосредственно соприкасался с крестьянской жизнью и много внимания уделял вопросам общественного воспитания народа, чему посвящены его книги «Сельская общественная служба», «Земская служба», «Толковая книжка о сельском управлении» (1888). О том, что в религиозном смысле Блинов придерживался достаточно свободных убеждений, свидетельствует тот факт, что предназначавшаяся им для семейного чтения книга «Страдания Великого учителя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа» (1878) была запрещена как «проникнутая духом рационализма» и «направленная к пропаганде
Обзор народно-учебной литературы, составленный по поручению Комитета грамотности (цит. по: Блинов Николай. Свет и во тьме светит! Сарапул, 1888).
социалистического учения» . Все это объясняет внимание Блинова к деятельности Толстого и реакцию на его поздние тексты.
В 1887 г. в издательстве «Посредник» была опубликована драма Толстого «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть». В том же году в журнале «Северный вестник» с посвящением Толстому появился «драматический эскиз» Блинова «Свет и во тьме светит!»". Посвящение пьесы Толстому подчеркивало очевидную уже из заглавия диалогическую ориентированность на толстовский текст. В чем особенности этого диалога - нам и предстоит разобраться.
Сюжетную основу пьесы Толстого составила уголовная история, случившаяся в Тульской губернии: 37-летний крестьянин, женатый на 50-летней вдове, изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которую впоследствии принуждал к сожительству. Предупредив перед ее родами жену, чтобы та принесла младенца в погреб, он задавил его доской, но ребенок жил еще несколько часов, и детоубийца долго слышал его писк. Спустя некоторое время падчерице подыскали жениха, но в день свадьбы, когда отчим должен был благословить новобрачную, он принародно сознался в своем злодеянии. Такова фабула. Материалы этого дела свидетельствуют о том, что единственным виновником преступления был сам Ефрем Колосков (хотя выдвигалась и версия о том, что к убийству ребенка его побудила жена). Толстой дважды встречался с Колосковым, _ 3
поэтому знал его историю в подрооностях .
Содержание драмы «Власть тьмы» всем известно. Известна и основная интерпретация ее идейного смысла. Л.М. Лотман, обобщая опыт истолкования пьесы в советском литературоведении, заметила, что «самая структура драмы Толстого выражает мысль об опасности эскалации зла»4, и с этим трудно не согласиться. Толкуя поведение Анисьи и Никиты, исследовательница подчеркивает, что в этих персонажах Толстой изобличает «рутинность их сознания, нежелание думать, иметь свое мнение, отвечать за содеянное»5. Это тоже справедливо. И все же существующие трактовки представляются недостаточными, зак как не учитывают в полной мере содержания пьесы, акцентированного эпиграфом. Напомню, что первая публикация «Власти тьмы» была связана с цензурными препятствиями, но когда в 1886 г. пьесу разрешили к печати, она прошла с единственной поправкой - был изъят эпиграф1. Впервые пьеса была напечатана с эпиграфом только в 1913 г., в собрании сочинений, вышедшем под редакцией П.И. Бирюкова*".
Эпиграфом к пьесе Толстой взял евангельские слова, которые несколько позже повторит в эпиграфах к «Дьяволу» и «Крейцеровой сонате»:
«А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф. V, 28, 29).
Как можно заметить, эпиграф дает вполне определенные ориентиры для понимания пьесы. В. соответствии с реальной фабулой именно прелюбодеяние является первичным, изначальным злом, которое подготавливает и делает возможной последующую «эскалацию зла». Эта ситуация, по сути, находит соответствие в грехопадении первых людей, открывающем мифологическую историю человечества. В одном из писем Толстой назвал свою пьесу «драмой на прелюбодеяние» (85. 410), и окончательный текст этому не противоречит. Предваряя свои последующие сочинения, писатель в этом произведении показывает плотскую любовь как одно из наиболее очевидных проявлений животности, опровергающей духовную сущность человека. Именно в прелюбодеянии — греховном воплощении плотской любви - наиболее ощутимо проявляется отсутствие нравственных ориентиров, животная вседозволенность, не имеющая сдерживающих начал (подобные акценты будут жестко расставлены в «Крейцеровой сонате»). Деньги, интересы материального свойства - это другая ипостась животности, тоже явленная в пьесе. Но мотив денег второстепенен и связан прежде всего с образами Матрены и Анисьи. Линия же Никиты и Анисьи как главных действующих лиц изначально определяется именно мотивом прелюбодеяния.
Образ Никиты - центральный в пьесе, все остальные персонажи так или иначе связаны с ним и группируются вокруг него: толкающая во тьму мать, тянущий к свету отец и три любовницы, причем каждая последующая любовная связь оказывается все более греховной. Сначала -это соблазнение и обман девушки Марины; потом связь с замужней Анисьей и обман Петра, никогда не делавшего ему зла; наконец, после женитьбы на Анисье, связь с падчерицей Акулиной и обман жены, для которой, впрочем, это не является тайной. В последнем случае происходит зеркальное повторение предыдущей коллизии: прелюбодеяние, которое совершается тут же, под одной крышей, при живом супруге. Убийства, совершаемые персонажами, Толстой показывает как естественное следствие преступных любовных отношений. Так, если в убийстве Петра Никита оказывается повинен лишь косвенно и до поры до времени даже не ведает, что тот умер насильственной смертью, то дальнейшая порочность его жизни предопределяет страшный грех убиения собственного новорожденного ребенка. Так выстраиваются уровни падения главного героя: сначала прелюбодеяние; потом клятвопреступление - в сцене объяснения с отцом, когда он клянется Христом, что не обманывал Марину, причем знаменательна его реплика в последовавшем за этим монологе: «И как это меня как толконул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель и оборвал. Боязно, говорят, в неправде божиться. Все одна глупость» (Толстой намеренно акцентирует внимание на том, что это происходит буквально в темноте); наконец-убийство.
Таким образом, тьма - не просто нежелание персонажей пьесы «думать, иметь свое мнение и отвечать за содеянное», как пишет о том Л.М. Лотман, но пренебрежение нравственными заповедями и полное их забвение, животность существования, вытеснение из жизни духовных начал. И это соотносится с названием пьесы, которое, как заметил уже Н.К.
Гудзий, представляет собой библейскую цитату . В сцене предательства Иисус говорит пленившим его: «Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук: но теперь - ваше время и власть тьмы» .(Лк. XXII; 53). Главное же в учении Христа, как подчеркивал Толстой, - победа духовного начала над плотским, стремление уничтожить «власть плотской жизни» (24. 922), т.е. «власть тьмы» и «власть плотской жизни» для Толстого понятия тождественные.
Нельзя не обратить внимания на то, что прямыми носителями зла в драме Толстого показаны женщины. Комментатор пьесы ЮЛ. Рыбакова . з заметила, что каждая супружеская пара здесь - «средоточие антагонизма» — и на этом остановилась. Но толстовская расстановка гендерных акцентов требует более пристального внимания, так как очевидны вполне определенные закономерности: негативный полюс во всех случаях представлен женскими персонажами, именно в них доминирует животное начало. Эта мысль является лейтмотивом пьесы. Наиболее отчетливо ее вербализует один из резонеров - бывалый человек, отставной солдат Митрич в разговоре с Анюткой (во втором варианте IV действия): «И пакостницы же бабы эти! Мужиков похвалить нельзя. А уж бабы... Эти как звери лесные. Ничего не боятся». В уста Митрича вложены и рассуждения
-
1 Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1982. Т. 11. С. 37
-
2 Гудзий Н.К. Указ. соч. С. 718.
-
3 Рыбакова Ю.П. Комментарии // Толстой Л.Н. Собрание сочинений. Т. 11.
С. 479.
о причинах, определяется своего рода социальная детерминированность подобного положения вещей: «Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас учит? <...> Деревенская баба что? Слякоть одна. Вашей сестры в России большие миллионы, а все, как кроты слепые, - ничего не знаете <...> Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик - тот хоть в кабаке, а то и в замке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что?» «Зверь», «беспастушная скотина» - так через зооуподобления определяется нравственный уровень деревенской женщины, которая оказывается составной частью не просветленного разумом животного мира.
На это, казалось бы, можно возразить, что есть в пьесе и позитивно репрезентированные женские персонажи - Марина и Анютка. Но Анютка - еще ребенок с неопределенной будущностью, Марина же в общем контексте выглядит как редкостное исключение. В пьесе создается патриархатная идеологическая модель, представляющая отцовское начало как высшую инстанцию: Аким, проповедующий божеские принципы, - не просто сюжетный отец героя, но и символическое воплощение Отца как носителя истины. Материнское же начало последовательно дискредитируется, и не только образом Матрены, которая инициирует оба убийства, но и образом Анисьи, позволяющей себе бесчинствовать на глазах у малолетней дочери. Мать не учит и не может научить добру (о причинах смотри вышеприведенные рассуждения резонера Митрича). И проблема духовного прозрения в пьесе также связана с мужским персонажем - Никитой, который оказывается способен принять всю вину на себя, т.е. подняться до осознания своей индивидуальной ответственности за совершившееся зло.
Пьеса Блинова называется «Свет и во тьме светит!». Знаменательна графически артикулированная утвердительная интонация. Хотя незначительная инверсия в библейской формуле приводит к тому, что в фокусе заглавия оказывается слово «тьма», но неизбежность ее полной власти энергично отрицается. И сюжегно-идеологически пьеса Блинова являет собой пример, противоположный толстовской драме. Автор, само собой разумеется, не стремился вступать с Толстым в полемику гендерного свойства, но этот компонент в их диалоге тем не менее присутствует.
В пьесе показана драматичная история крестьянки Домны. Блинов берег за основу сюжетную канву толстовской пьесы, но переворачивает ситуацию и, по сути, наполняет ее иным содержанием. Расстановка персонажей такова: молодая Домна и женатый на ней вторым браком больной Роман: работника у них нет, и Домна, выбиваясь из сил, старается управляться во всем сама, жалеет мужа и надеется вылечить его с помощью деревенской врачевательницы Феклы. Роман страдает не только физически, но и нравственно, сознавая, что он, немолодой вдовец с двумя
1 Толстой Л.Н. Собрание сочинений. Т. 11. С. 85.
детьми, женившись на Домне, разлучил девушку с любившим ее Кирилой;-сама же Домна никогда не произносит ни слова упрека. Кирило вначале возникает как внесценический персонаж, лишь упоминается о его добровольной функции помощника и друга. I 1отом в таком же качестве он вводится в действие, причем Домна пресекает все его попытки перевести отношения в интимное русло. Ситуация выглядит не вполне понятной, потому что даже после смерти мужа она не позволяет ему выразить свои честные намерения. Но отличие этой пьесы от «народной драмы» Толстого не только в нравственной чистоте героев и условности любовного треугольника.
Л.Я. Гинзбург справедливо писала о последовательном детерминизме Толстого. И во «Власти тьмы» у него действует суровая закономерность, причины и следствия жестко связаны между собой. Развитие же событий в пьесе Блинова выглядит как цепь случайностей. Движущей пружиной действия оказывается механизм молвы: урядник нечаянно подслушивает у колодца пересуды кумушек о том, что между Домной и Кирилой давно существует любовная связь и Роман, возможно, умер не своей смертью. Посвященный читатель с возмущением переживает арест Домны. Но ситуация оказывается еще более напряженной, потому что эксгумация тела Романа обнаруживает, что он был отравлен. Предпоследнее действие пьесы изображает сцену суда над Домной, которой угрожает обвинение в убийстве мужа. И тут снова вступает в действие - теперь уже спасительная - случайность. Один из присяжных, крестьянин, задает вопрос, лечился ли Роман. И тогда выясняется, что по предписаниям пользовавшей его деревенской врачевательницы Роман принял в общей сложности смертельную дозу сулемы, хлорной ртути, которая является сильным ядом. Подобные случаи были часты в крестьянской среде - и таким образом ситуация сразу разъясняется . Действие развивается по сценарию deus ex machina. Благодаря сметливому крестьянину, Домна оправдана, добродетель вознаграждена, справедливость торжествует. История добродетельной крестьянки оказывается не более чем сказкой с хорошим концом. Не останавливаясь специально на гендерной проблематике пьесы, заметим лишь, что здесь нет дискриминации женских персонажей, образ же главной героини явно идеализирован: она не только верная жена, но и добрая мать для своих пасынков, т.е. материнство представлено в самом возвышенном варианте.
Свою пьесу, изданную в 1888 г. отдельной книжкой, Блинов подарил Толстому с надписью: «Лев Николаевич! Прошу Вас принять эту книгу как посильное выражение моего глубокого уважения к Вам и Вашим
Блинова . Как можно судить по толстовским черновикам, одним из вариантов названия было буквальное повторение блиновской формулы -«Свет и во тьме светит» (31. 298 и др.). И сами тексты этих произведений также дают основание для их соотнесения между собой.
Косвенным образом об этом свидетельствует проходной эпизод в последней драме Толстого. В сцене посещения деревни главным героем Николаем Ивановичем Сарынцевым автор вновь возвращается к теме неблагополучия в крестьянской семье: муж болен, жена брюхата, двое малых детей. Изнуренная непосильной работой, баба говорит: «Измучалась, одна во все дела <...> А тут этот лодырь валяется». И на укоризненную реплику барина взвивается: «Болен он, а я не больна? Как работать, так болен. А гулять не болен да мне косы рвать. Издыхай он, как з пес. Мне что!» Правда, в ходе разговора она несколько остывает, и становится понятно, что мужа ей все-таки жаль. И хотя в целом ее отношение к больному больше тяготеет к той модели, которая представлена во «Власти тьмы», а не в пьесе Блинова, но, учитывая ее, можно объяснить смягчение жестко заявленной ситуации.
В своей последней пьесе Толстой в гендерном смысле остается на прежних позициях. И хотя действие ее связано не с крестьянской, а дворянской средой, акценты расставлены по-прежнему: стремление жить по-божески закреплено за мужскими персонажами. Женские же персонажи только препятствуют этому, как жена Сарынцева, или предают, как предала его дочь Люба своего жениха Бориса, верного последователя ее отца.
Но вернемся к тому, что заглавие последней пьесы Толстого корреспондирует с названием пьесы Блинова. Изначально оба восходят к библейскому источнику, который получает свою огласовку у каждого из авторов. Напомню библейский текст:
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков:
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Иоанн. I; 4-5).
Допущенная Блиновым незначительная инверсия ведет к определенному смещению смысла, потому что акцентно (невзирая на восклицательный знак) в более сильной позиции оказывается понятие «тьма», утверждаемое как реальность, допускающая некоторые
Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне: Библиографическое описание. Т. I. Книги на русском языке. Ч. 1. А-Л. М., 1972. С. 107. .
-
2 Об этом: Озерова А. Предисловие И Толстой Л.Н. Юб. изд. Т. 31. С. XI.
-
3 Толстой Л.Н. Собрание сочинений. Т. 11. С. 226-227.
исключения. И развитие интриги в пьесе, как уже говорилось, определяется не закономерностями, а случайностями, как следствие этих случайностей возникает и финальное торжество справедливости - happy end. Толстой после определенных колебаний возвращается к буквальной библейской формуле, синтаксическая конструкция которой такова, что доминирующим оказывается слово «свет». Но еще более важно, что, как авторитетное библейское слово, она является утверждением правила, закономерности, а не исключения. И это адекватно идейно-смысловому составу последней пьесы Толстого, в которой обретение света, т.е. «истинного разумения жизни» (24. 33), показано как трагедия и вместе с тем как необратимая цепная реакция. Это тот сюжет, который не предполагает внешнего благополучия, сопряжен с тяжелейшими нравственными потрясениями и в принципе не может иметь счастливого разрешения.
Предложенная нами реконструкция своеобразной «трилогии», какой является диалог Толстого и Блинова, ярче высвечивает идеологические особенности позднего творчества Толстого. В контексте пьесы Блинова резче обозначается и пафос толстовского отрицания, и пафос толстовского утверждения. Пьеса Блинова помогает прочитать «Власть тьмы» именно как «драму на прелюбодеяние» и позволяет увидеть ускользавшее от внимания исследователей обстоятельство: категории «свет» и «тьма» у Толстого включают в себя гендерные коннотации -женским персонажам он не оставляет шанса на духовное просветление, отказывая им в возможности «истинного разумения жизни».