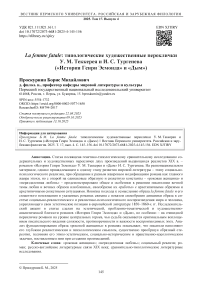La femme fatale: типологические художественные переклички У. М. Теккерея и И. С. Тургенева («История Генри Эсмонда» и «Дым»)
Автор: Проскурнин Б.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена генетико-типологическому сравнительному исследованию содержательных и художественных перекличек двух произведений выдающихся реалистов XIX в. – романов «История Генри Эсмонда» У. М. Теккерея и «Дым» И. С. Тургенева. На разнонациональном материале, однако принадлежащем к одному этапу развития мировой литературы – этапу социально-психологического реализма, при обращении к разным жанровым модификациям романа как главного жанра эпохи, но с опорой на одинаковые образную и сюжетную константы – «роковая женщина» и «неразделенная любовь» – продемонстрировано общее и особенное в решении писателями вечной темы любви и вечных образов влюбленных, своеобразие их «работы» с архетипичными образами и архетипичными сюжетными ситуациями. Новизна подхода к осмыслению образа la femme fatale и его сюжетного воплощения в указанных романах связана с показом своеобразия динамики образа в системе социально-реалистического и реалистико-психологического воспроизведения мира и человека, укрепляющего свои эстетические позиции в европейской литературе 1850–1860-х гг. Исследовательский акцент в статье сделан на эстетической, проблемно-тематической и художественно-аналитической близости романов «История Генри Эсмонда» и «Дым», но особенно – на очевидной перекличке романов на уровне центральных героев, чья судьба оказывается оригинальным воплощением писательского видения сложности, противоречивости и важности воспроизводимых эпох. Анализ функционирования образа «роковой женщины» в романах показывает, что писатели наполняют его глубоким реалистическим и психологическим смыслом, существенно преобразуя образный стереотип, подчиняя его этико-эстетическим, социально-историческим и нравственно-идеологическим задачам, поставленным ими при создании произведений.
«роковая женщина», «неразделенная любовь», социальный реализм, роман, русско-английские литературные связи XIX века, сравнительно-типологические литературные исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/147252798
IDR: 147252798 | УДК: 821.111:821.161.1 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-4-145-156
Текст научной статьи La femme fatale: типологические художественные переклички У. М. Теккерея и И. С. Тургенева («История Генри Эсмонда» и «Дым»)
Одной из вечных тем в мировом искусстве и литературе является тема любви, столь же вечны в истории мировой литературы любовный сюжет и образы влюбленных. Особо подчеркнем распространенную в произведениях на эту вечную тему дихотомию любви взаимной и безответной. И в том, и в другом случае возникает драматическое заострение темы; при этом в сюжетной ситуации неразделенной любви уровень погружения во внутренний мир героя, как правило, мужчины, чрезвычайно глубок. Тема неразделенной, а то и фатальной, роковой, любви, как известно, станет одной их ядерных в мировой любовной лирике от рыцарей, Петрарки, Шекспира, Гете, Новалиса до поэтов нашего времени. И не только лирики, но и литературы в целом. Вспомним Ф. Шиллера, А. И. Куприна, Ф. С. Фитцджеральда – и далее по списку чуть ли не всей мировой литературы. Столь же частотен в мировой литературе и объект такой любви – роковая (фатальная) женщина.
«Образ роковой женщины, la femme fatale , насчитывает чуть ли тысячелетия трансформаций, превращений и толкований» [Федорова 2013]. Трудно перечислить все варианты этого образа в мировой культуре и литературе: Лилит, Цирцея, Медея, Клитемнестра, Клеопатра, Мессалина, Далила, Саломея и т. д. Общеизвестно, что в XIX в. этот образ был особенно популярен в предромантический этап развития европейской культуры (здесь более уместно говорить о готической литературе: вспомним роман «Монах» М. Г. Льюиса и образ Матильды), романтический период (назовем хотя бы знаменитые баллады Дж. Китса “La Belle Dame Sans Merci” и «Ламия») и в период расцвета декаданса (здесь в первую очередь говорят о «Саломее» О. Уайльда) (см. об этом: [Praz 1968; Craciun 2003; Лурье 2012; Федорова 2013]). Актуализация образа на этих этапах развития мировой литературы объясняется, с одной стороны, порубежным характером обозначенных эпох, глубинными сдвигами в эстетическом освоении мира в целом в эти моменты, а с другой – вечным желанием мужчин-авторов понять «темное женское начало» и «общим переосмыслением женской образности», начатым на рубеже XVIII–XIX вв. и давшим о себе знать в конце XIX в. [Лурье 2012: 155].
Очевидна архетипичность образов и мотива любовных отношений «роковой женщины» и ее поклонника. Здесь имеет место тот самый случай, когда очевидны отмеченные Е. М. Меле-тинским особая образность и имплицитная сюжетность [Мелетинский 1994: 4]. Используя терминологию исследователя, скажем, что «роковая женщина» весьма близка к хтоническим, демоническим силам [Мелетинский 1994: 18], хотя, в конечном счете, это социально-культурный архетип, а демоническое по мере развития художественного освоения мира и человека становится воплощением кризиса социума, «болезни века», особенностей времени. Тем не менее роковую женщину чаще всего описывают как своеобразную чародейку, соблазнительницу, всегда ассоциирующуюся с необычностью, загадочностью и беспокойством. Не случайно Е. М. Мелетинский полагал, что именно в архетипичном сюжете безответной или трудной любви к «роковой женщине» возникают контрастная пара архетипических героя (героини) и антигероя (антигероини) [там же: 38] и мотив «страдательного попадания самого героя во власть демона и спасения от него» [там же: 55].
Достаточно частое появление образа la femme fatale в английской литературе второй половины XIX в. объясняется скорее всего двумя моментами: общим переосмыслением женской темы и женской образности и увеличением колониальной проблематики, то есть всплеском внимания к экзотике, связываемой с далекими странами. Не случайно Ребекка Стот, размышляя о «роковой женщине» у поздних викторианцев, обращается к неоромантизму и творчеству Р. Хаггарда и Б. Стокера с их неанглийскими сюжетами, а также к образам малазийских и африканских женщин в ряде произведений Дж. Конрада, трактуемым ею целиком неоромантически. Анализируя образ Тэсс в знаменитом романе Т. Гарди, исследовательница, справедливо делая бол́ ьший акцент на метаисторической фатальной составляющей структуры образа и ее сюжетной функции, забывает при этом, что понятие «роковая женщина» традиционно подразумевает драматическую любовь мужчины к такой женщине, ее манипулирование им, чего, как известно, нет в романе «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» (см.: [Stott 1992]), даже если иметь в виду сложные чувства, питаемые к Тэсс Энджелом Клэром и Алеком Д’Эрбервиллем.
Сама по себе постановка вопроса о типе роковой женщины в реалистической литературе середины XIX в. любопытна и продуктивна, особенно если иметь в виду, во-первых, возрастающую в то время усложненность образа человека за счет увеличивающейся психологической глубины рисуемого характера и отказа от бинарности при изображении психологии героя или героини в пользу «многоголосия» во внутреннем мире героя или героини, не всегда кстати «организованного». Во-вторых, постановка вопроса о динамике образа la femme fatale в условиях главенства социально-психологического реализма в мировой литературе второй половины XIX в. важна в связи со все более растущим в то время вниманием к воспроизведению того, что Ф. Достоевский называл «за-душевной» составляющей природы человека, то есть того, что после З. Фрейда будет называться «индивидуальным бессознательным», а благодаря К. Юнгу – «коллективным бессознательным». Иначе говоря, образ роковой женщины в реалистической литературе второй половины позапрошлого века, когда складывается принцип художественного психологизма как системы, теряет ранее свойственный ему мистицизм, сказочную таинственность и приобретает социально-аналитический акцент. Более того, термин «роковая женщина» становится метафорой построенного на контрастах женского образа, сочетающего социально-психологический аналитизм с обязательным для образа акцентом на страстность и холодность, искренность и актерство, капризность и взбалмошность, внешней, порою, завораживающей красоте и внутренний душевный кризис, деструктивность любовного чувства, способность подчинять своим чарам и управлять влюбленным в нее мужчиной как сублимацию низкой социальной роли женщины, к тому времени уже справедливо «рвущейся» на вершины социума1.
Именно в таком исследовательском ракурсе предполагается посмотреть на вариации образа la femme fatale у двух писателей XIX в. – Теккерея и Тургенева, каждый из которых не только сыграл выдающуюся роль в истории собственных национальных литератур, но и приобрел всемирную славу выдающегося прозаика, и каждым из которых создана галерея женских образов, так или иначе воплощающих понимание своего времени.
О судьбе творчества У. М. Теккерея отечественные исследователи писали не раз (см.: [Ивашева 1974; Вахрушев 1984; Нуралова 1985; Гениева 1989; Гениева 1990; Гнюсова 2008; Ломакин 2012] и др.), подчеркивая не открывающий всей глубины мастерства писателя стереотип сравнения с Диккенсом: «Его постоянно сравнивали с Диккенсом, выверяли его достижения по Диккенсу, что, по сути своей, было неверно – трудно себе представить более непохожих друг на друга писателей» [Гениева 1990: 6]. В другой работе Е. Ю. Гениева писала: «Ситуация в известном смысле нелепая, но имеющая объяснение. Творческая драма Теккерея, писателя, опередившего свое время, скорее нашего современника [курсив наш. – Б. П.], была в том, что исторически он был современником Диккенса. Всю жизнь, у себя на родине и у нас, в России, он находился в тени великого собрата по перу» [Гениева 1989]. Упоминали исследователи и о личном знакомстве Теккерея и Тургенева, хотя писатели не оставили объемных и зафиксиро- ванных в дневниках, письмах, статьях и т. п. материалах впечатлений друг о друге, чтобы можно было составить какое-либо основательное суждение об их двух встречах, разговорах, а главное – об их мнениях о творчестве друг друга (см.: Гениева 1989; Нуралова]. Безусловно, И. С. Тургенев, практически живший в Европе и «из первых рук» осведомленный об основных именах и явлениях ведущих европейских литератур, а также будучи внимательным и вдумчивым читателем, в том числе английской литературы, не мог не читать произведения Теккерея, о чем свидетельствуют его частые отсылки к «Ярмарке тщеславия» в письмах, хотя в его домашней библиотеке в Спасском-Лутовинове сохранился лишь экземпляр «Истории Пенденниса» (см. об этом: [Нуралова 1985; Сизарева 2023; Волков 2024]).
Обратим внимание на прозорливое замечание Е. Ю. Гениевой: «Вчитываясь в произведения Тургенева, например, в его “Дым”, раздумывая над образом Ирины, приходишь к выводу, что, вероятно, Тургенев, так мало сказавший о Теккерее, был его внимательным читателем. Трудно удержаться от сопоставления образа Ирины с женскими персонажами в романах и повестях Теккерея, особенно с героинями “Эсмонда” и “Ньюкомов”» [Гениева 1989]. Эта мысль литературоведа звучит как приглашение к дальнейшему размышлению, и наша работа, в известной степени, – развитие этой исследовательской предпосылки. Оно построено на принципах типологосравнительного изучения разнонационального, но появившегося в рамках одного этапа развития мировой литературы материала и в рамках одного художественного посыла – исследовать внутренний мир человека, прежде всего чувственную его сторону, в переходных социально-исторических контекстах: анализируются роман Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра, полковника службы ее величества королевы Анны, написанная им самим» (“The History of Henry Esmond, Esq., A Colonel in the Service of Her Majesty Queen Anne, Written by Himself”, 1852), живописующий турбулентный в истории Англии период смены одной королевской династии другой, и роман И. С. Тургенева «Дым», по-новому для писателя и ошеломительно не по-тургеневски для тогдашних его читателей (см. об этом: глава VII в книге Г. А. Бялого [Бялый 1962]) осмысляющий буквально «пышущие жаром современности» нравственно-идеологические проблемы пореформенной России (впервые опубликован в журнале «Русский вестник» за 1867 г., № 3).
Методологической основой нашего сопоставительного изучения теккереевского и тургенев- ского вариантов la femme fatale и ее судьбы в современном ей обществе в этих романах является не столько изучение использования одним писателем опыта другого, к чему может толкать пятнадцатилетняя разница выхода произведений в свет, сколько осмысление того, что Д. Дюришин называет «влиянием эстетических идей» [Дюришин 1979: 144], явлением, диктуемым «закономерностями всеобщего порядка» [Дюришин 1979: 173], иначе говоря – генетической общностью и проявлением всеобщего в единичном, особенном, общемирового литературного явления в национальном литературном преломлении.
Действительно, для генетико-типологического сравнения темы трудной любви и образов «роковой женщины» в двух обозначенных романах Теккерея и Тургенева, как и для сопоставления самих романов, есть немало оснований. Во-первых, в обоих случаях доминирует мужской взгляд на образ «роковой женщины», пусть повествовательно и реализованный по-разному: у Теккерея Ich-erzählung мемуарного типа, хотя время от времени вспоминающий события своего детства, отрочества и молодости Эсмонд смотрит на всё это как бы «со стороны», с высоты прожитого, а потому часто о самом себе тогдашнем говорит «он», «Гарри», «полковник» и т. п.; у Тургенева – казалось бы абсолютное Sie-erzählung, но дистанция между автором и героем настолько мала, что порою, как и в случае с Эсмондом, мы оказываемся внутри перспективы видения событий, их оценки главным героем Григорием Литвиновым. Очевидна доминанта интроспективизации повествования у того и у другого, хотя и в разных жанрах, с разной степенью имплицитности/эксплицитности и концентрации. Думается, что суждение одного из первых толкователей Теккерея Р. М. Роскоу о нем справедливо и по отношению к Тургеневу: «…глубокие и чувствительные ощущения делают его восприимчивым к той сфере, которая лежит на границе между душевными волнениями и интеллектом…» (цит. по: [Проскурнин, Яшенькина 1998: 212]). Этой мысли классика мирового теккерееведения вторит современная исследовательница, когда говорит о том, что в «Генри Эсмонде» «Теккерей создает интроспективное, очень интимное произведение, выдержанное в лирическом ключе» [Catalan 2009: 105]. Как известно, герои романов Тургенева изначально глубоко и по-тургеневски особо психологичны. Г. М. Ребель, один из авторитетных современных знатоков творчества писателя, справедливо отмечает особенность его психологизма, придающего всему повествованию особый лирический лад, в том, что образ героя у Тургенева «создает- ся при помощи очень деликатного, неброского, рассеянного (разбросанного по тексту), многосоставного, филигранного, сложного психологического рисунка, существенными элементами которого являются в совокупности все проявления героя в их взаимодействии и взаимокорректи-ровке… <…> то есть вся полнота геройного существования в художественном мире произведения…» [Ребель 2007:156]
Рассматриваемые романы занимают особое место в творчестве Теккерея и Тургенева. Так, «История Генри Эсмонда» – оригинальный исторический роман, «стоящий особняком в английской исторической романистике 50-х годов» XIX в. [Вахрушев 1984: 92] и, конечно, в творчестве самого Теккерея, поскольку после пародийного осмысления жанра в «Ребекке и Ровене», но особенно в «Записках Барри Линдона», писатель создал новаторский исторический роман; это и «блестящий опыт психологического романа, пронизанный при этом автобиографическими мотивами» [Ивашева 1974: 246]. Современник Теккерея, философ, психолог и критик Дж. Г. Льюис, рецензируя «Генри Эсмонда», отметил, что роман «настолько не похож на “Ярмарку тщеславия” и “Пенденниса”, насколько может быть таковым роман Теккерея» (цит. по: [Lund 1988: 79]), тем самым обозначив особость романа в творческой практике писателя.
Тургеневский «Дым» современники писателя (Д. И. Писарев, Н. Н. Страхов) и последующие поколения исследователей называли совершенно новым типом романа, «странным соединением любовного романа с политическим памфлетом», где, по определению Л. В. Пумпянского, «разнородные жанровые пласты держатся лишь “на единстве символа”» (цит. по: [Петровская 2012: 55]). Под этим символом имеется в виду символ дыма, он же туман, неопределенность, неизвестность, неустойчивость. Отметим полемически заостренное и, как кажется, не замеченное современными тургеневедами суждение об этом романе О. М. Ушаковой, которая в изыскательски смелых и одновременно глубоких размышлениях о «Дыме» как претексте знаменитой поэмы Т. С. Элиота «Любовная песня Пруфрока» приходит к выводу о маргинальном положении романа «Дым» в творчестве Тургенева с точки зрения эволюции его европеизма в сторону эстетики уже новейшего времени – эстетики модерна (курсив наш. – Б. П. ) [Ушакова 2018].
Оба романа характеризуются необычностью формы, а также наличием в их содержательной структуре заостренного политического начала: у Теккерея с историческим акцентом, у Тургенева с идеологическим, причем и в том, и в другом – с оттенком сатиры, сарказма, пафлетности. В ро- мане Теккерея это не столь очевидно в его первой половине, где Эсмонд рассказывает о своих детских и отроческих годах жизни, и потому ему не все понятно, например, в деятельности главного политического интригана и шпиона в этой части произведения, наставника Эсмонда-мальчика мистера Холта - тайного агента якобитов и скрытого католика. Более очевидна политическая составляющая в финальных главах романа, повествующих о неудачной попытке посадить на освобождаемый умирающей королевой Анной английский трон принца Якова Стюарта группой заговорщиков, которую, стремясь хотя бы так добиться сердца и руки непреступной красавицы Беатрисы Каслвуд, а вовсе не по политической причине, возглавляет Генри Эсмонд.
В романе Тургенева идеолого-политическое связано с обращением к чрезвычайно политизированному времени в жизни России после реформы 1861 г.: страна бурлила политическими и идеологическими спорами и напряженными размышлениями о том, куда она пойдет в результате кардинальных социально-политических изменений, вызванных реформой. Заметим, что Теккерей и Тургенев совпадают и в характерологической «подаче» исторического и политикоидеологического начала; права Л. М. Лотман, полагая, что тургеневский герой воплощает «идею единства идеологии и психологии» и наделен автором «личной судьбой, отражающей исторический и этический смысл идеологии» [Лотман 1974: 170, 171]. Эти суждения вполне применимы к ряду образов «Генри Эсмонда». Совпадения очевидны и в иронико-сатирической интонации изображения характеров, носителей подобной «сюжетной судьбы»: Генри Эсмонд иронически, а к концу воспоминаний даже саркастически, осмысляет события политической жизни Англии конца XVII - начала XVIII в.; Тургенев создает иронико-сатирические собирательные образы представителей двух пореформенных идеологических течений в российcкой действительности - либерал-демократов и консерваторов. Имеется в виду, с одной стороны, группа так называемых «губаревцев», «гейдельбергских арабесок», в изображении Тургенева -новых «репетиловых», после проведенных нескольких часов с которыми Литвинов так и не понял, «при чем он присутствовал» и зачем «они собрались», «кричали, шумели, из кожи лезли» [Тургенев 1968: 23-24], а их «глава или наставник», Степан Губарев, «немного туповатый, лобастый, глазастый, губастый, бородастый» [там же: 16], которому «они излагали <…> свои сомнения, повергали их на его суд», отвечал им «мычанием, подергиванием бороды, вращением глаз или отрывочными, незначительными слова- ми», редко вмешиваясь в прения» [там же: 22]; он кстати будет разоблачен в своем псевдонаро-долюбии в конце романа (см.: [там же: 165-166]). С другой стороны - это группа молодых русских генералов на отдыхе в Баден-Бадене, яростно сожалеющих о начатых в России реформах, уверенных в неизбежном возвращении к «началу…un principe», «когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами», и полагающих, что их долг - «указывать перстом гражданина на бездну, куда все стремится», и на то, что «уж лучше по-старому, по-прежнему^ верней гораздо [там же: 59, 61]2.
Современников И. С. Тургенева напугала (по П. В. Анненкову) ядовитая резкость авторских оценок; Теккерей же был писателем, не боящимся резких суждений и разоблачительных эскапад, слыл «едким ироником и скептиком, утверждающим: ничто не ново под солнцем - ни добро, ни зло; в этом нередко видели порожденный его предельно трезвым умом и самой реальностью цинизм» [Проскурнин, Яшенькина 1998: 186]. Некоторые зарубежные критики считают, что «обвинения в цинизме и человеконенавистничестве <…> подтолкнули его к этой последней благородной цели» [Monsarrat 1980: 279], то есть к созданию истории о положительном герое, который страдает от неразделенной любви к демонически красивой девушке, но, разочаровавшись в ней и одновременно в политике, находит свое счастье в любви, не отягощенной мощными и разрушительными страстями, любви искренней и взаимной. То же самое происходит и с героем «Дыма»: только вырвав из сердца роковую любовь вновь от него отказавшейся красавицы Ирины Ратмировой и - что очень важно - вернувшись в Россию, Литвинов обретает любовь из-за испытаний, через которые она прошла, крепкую, верную, счастливую и «начинает сначала строить то, что однажды уже обратилось в дорожную пыль» [Ребель 2007: 257]. Последнее, по справедливому мнению литературоведа, - тургеневский «противовес» демагогии либералов и реакционеров.
У Тургенева очевидно более, нежели у Теккерея, синкретичное и более концентрированное (в том числе в связи с романным объемом) переплетение социального и любовного, идеологического и психологического. Роковая любовь в романах того и другого писателя играет важную роль с точки зрения характеристики времени и с точки зрения слияния мотивов личных, нравственных, социально-исторических, идеологических, психологических. Именно подобную объединительную сюжетную роль любви увидел в романе Теккерея В. С. Вахрушев, полагая тему любви центральной, которая по мере ее разрешения оригинально вбирает в себя практически все другие темы, но особенно – историческую тему смену династий в британском королевстве (см.: [Вахрушев 1974: 93–99]).
Своеобразно сплетена с идеологическими акцентами времени и любовная линия Литвинова и Ирины, а также линия еще более безответной, но чрезвычайно преданной любви к Ирине Потуги-на. Для всей концепции романа важно, что наиболее драматический виток трудной любви Литвинова к Ирине случается накануне нового этапа его жизни, когда он достиг целей своего заграничного путешествия и готов уже к возвращению в Россию, к началу иного, преобразовательного, типа хозяйствования в поместье, а также началу семейной жизни с Татьяной Шестовой. Новый этап жизни начинает и Россия; как и Литвинов, она, Россия, находится в поиске – в поиске других горизонтов жизни, новых социальнонравственных опор и принципов дальнейшего существования. Отсюда колебания, дискуссии, споры, столкновения позиций, которые сатирико-драматически и одновременно нравственнопсихологически (образы Литвинова и Потугина тому доказательства) изображает Тургенев.
Герой-рассказчик Теккерея повествует о своем жизненном пути, который по воле автора оказывается, по сути, историей Англии времен войны за Испанское наследство, правления королевы Анны и смены династий, еще раз после Славной революции 1688 г., – событий, продемонстрировавших окончательное вступление страны в эпоху политического компромисса аристократии и третьего сословия. Подчеркнем, как у Теккерея, так и у Тургенева все исторические, политические, идеологические «материи» подаются через частную, прежде всего внутреннюю жизнь главного героя; иначе, чем, как не погружением во внутреннюю жизнь, по Т. Манну, является роман? Словом, мы сталкиваемся со ставшей благодаря В. Скотту обязательной парадигмой жанра – «приватизацией истории», то есть изображением ее, по-пушкински говоря, «домашним образом». Этому «одомашниванию» истории (политики, идеологии) активно способствует и тема любви, которая у Теккерея историезируется и политизируется эксплицированно: счастье любви Генри Эсмонда к Беатрисе Каслвуд напрямую ставится ею в зависимость от успеха политического переворота, им возглавленного. Роман Тургенева не исторический, но имплицитно (глубинно) любовные сюжеты, в случае с Литвиновым любовное наваждение (любовная стихия как неизбежная форма «подачи» роковой любви), работают на тургеневскую концепцию исторического этапа, в который вступила Россия, как сложного, противоречивого, туманного, покрытого дымовой завесой неизвестности. Как видим, изображенная писателями роковая суть характеров Беатрисы и Ирины акцентирует сложность, противоречивость, переходность рисуемых писателями времен. Концептуальна внутренняя чуждость Ирины миру ее мужа Ратмирова и его друзей-генералов, что подчеркивается ее холодностью, резкостью и насмешками над Ратмировым и другими генералами, над их спутницами. Но и другой жизни она страшится, а потому не решается на побег с Литвиновым: «Ирина глубоко несчастна от того, что не может порвать с ненавистной ей обстановкой. В этом трагизм ее положения» [Батюто 1972: 276]. Вот почему одна из самых драматичных сцен романа – сцена на вокзале, когда Литвинов молча указывает все не решающейся на побег с ним Ирине на свободное место в его купе, а она, было уже упавшая без сил от внутренней борьбы на это место, в последний момент выбегает из вагона и исчезает «в молочной мгле тумана…» [Тургенев: 1968: 159].
Беатриса тоже ни на кого не похожа (прежде всего на мать, что важно для концепции семейного счастья в романе и для эволюции образа Эсмонда), тоже противопоставляет себя всем и всему: «Она была рождена, чтобы повелевать…» [Теккерей 1977: 365] (“She was born ˂…> to command every where” [Thackeray 1858: 335]), с детства «она командовала всем домом с величественным видом императрицы» [Теккерей 1977: 128] (“imperial ways” [Thackeray 1858: 110]), ее отличало «необузданное своеволие, <…> ревнивый нрав» [Теккерей 1977: 250] (“headstrong will… jealous temper” [Thackeray 1858: 414]). Беатриса представлена более целостной, чем Ирина, и не находится во внутреннем конфликте с самой собой. Эта целостность проистекает из ее агрессивной эгоцентричности как избалованной и изнеженной родителями красавицы, из-за бедности, в которую вверг семью мот и игрок отец, по сути, торгующей своей красотой. Она открыто манипулирует окружением, начиная с родителей и брата и заканчивая влюбляющимися в нее мужчинами. Беатриса легко влюбляет в себя принца Якова и герцога Гамильтона, например; не говоря уже о страдающем на протяжении всего романа от безответной любви к ней Эсмонда. При этом она абсолютно «от мира сего»: «Я хочу везде быть первой, сэр, и хочу, чтобы мне льстили и говорили любезности» [Теккерей 1977: 394]. А Ирина у Тургенева – «вне мира сего», она вся стихия, с которой она не может совладать. Одновременно Тургенев, рассказывая историю семьи Осининых и акцентируя их родовую княжескую гордость в контрасте с бедностью и захудалостью «чистокровных князей, Рюриковичей» [Тургенев 1968: 37], объясняет характер своеобразного бунта Ирины против обстоятельств, ее желание реванша, головокружительного успеха назло не благоволящей ей судьбе социальной историей, а не только «красотой на продажу». Ее своеобразный бунт завершается показным, даже лицемерным, благонравием, когда Ирина, как сообщается в конце романа, превращает свой петербургский дом в храм, «посвященный высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом: неземному» [там же: 169]. Понятно, что это своего рода месть светскому миру за поражение в борьбе с ним; ироничный повествователь сообщает, что «молодые люди не все сплошь влюбляются в Ирину… Они ее боятся… они боятся ее озлобленного ума» [там же: 170] и понимают, что ничего кроме терзаний и страданий любовь к Ирине не принесет. Беатриса в романе Теккерея тоже прекрасно понимает, что доставляет страдания Генри: «Вы слишком рабски подчинялись мне, чтобы завоевать мое сердце…» [Теккерей 1977: 430]. В силу природного и даже не осознаваемого ею эгоцентризма, стремления к большему, чем судьба ей представляет, Беатриса ничуть не сочувствует ему, как и другим мужчинам, теряющим голову от любви к ней: «…своенравная красавица вскидывала теперь голову с видом недосягаемого превосходства, и вся ее повадка, казалось, говорила: “Не подступись!”» [Теккерей 1968: 392].
В связи с большей эпической развернутостью всего повествования и при этом меньшим лирическим напряжением образ Беатрисы Каслвуд в романе Теккерея дан фабульно более развернуто, чем образ Ирины у Тургенева, но в обоих произведениях героини постоянно «на сцене», по-театральному «укрупнены»: сказывается тенденция драматизации романа, заявившая о себе как раз во второй половине XIX в. Одновременно эти «роковые женщины» показаны извне, мужским глазом, и потому столь впечатляющи непонятность, неожиданность, казалось бы, немотивиро-ванность, капризность их поведения. Читаем о Беатрисе: «…в глазах ее был особенный, неизъяснимый (выд. мною. – Б.П.) блеск» [Теккерей 1977: 450] (“a wonderful lustre” [Thackeray 1858: 414]), и Ирину Тургенев наделяет необычным выражением глаз: они «внимательно и задумчиво глядели из какой-то неведомой глубины и дали» [Тургенев 1968: 38]. Не случайно О. М. Ушакова увидела во взгляде Ирины Ратмировой воплощение еще одного мифологического архетипа роковой женщины – Медузы Горгоны: взгляд Ирины подобен взгляду мифического чудовища, способного завораживать и вводить в состояние оцепенения свои жертвы, как это происходит с Литвиновым, да и Потугин тоже признается в этом (см.: [Ушакова 2018: 334]). Излишне говорить, что и Теккерей не раз подчеркивает маня- щий и покоряющий взгляд Беатрисы (см.: [Теккерей 1977: 234, 304, 333, 450, 476]).
Ирина наделена Тургеневым своеобразным демонизмом: уже в семнадцать лет в ней сказывалась «нервическая барышня», а в рисунке ее «улыбавшихся, тонких губ, было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для нее, и для других»; в институте благородных девиц она тогда «слыла за одну из лучших учениц по уму и способностям, но с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головой» [Тургенев 1968: 38]. Да и на баден-баденском, основном, а не ретроспективном, этапе сюжета Ирина относит себя к людям, которые не знают, что «происходит у них в душе» [Тургенев 1968: 138]. Демонические женщины Тургенева (а к ним также можно отнести Анну Одинцову из «Отцов и детей», Марию Полозову из «Вешних вод», Клару Милич из «После смерти») – это антиподы «тургеневских девушек»: «…они сильны, властны, горделивы, не способны на жертвенную любовь, но в большинстве случаев эти женщины так же несчастны, как и “тургеневские девушки”» [Хар-лушина 2011: 206]. Но это не отменяет, а, наоборот, предопределяет сложность этих образов. Орловский литературовед А. А. Бельская справедливо пишет: «Образ Ирины Осини-ной/Ратмировой, пожалуй, – один из самых сложных женских образов русской литературы, и в романе Тургенева она предстает одновременно и воплощенной Красотой, и одинокой Душой, и ищущей любовь страницей, и Любовницей, и нарушающей “запрет” Женою» [Бельская 2014: 174]. Сложность, противоречивость, загадочность этого образа навеяна Тургеневу его непростыми отношениями с Полиной Виардо; не случайно в одном из писем к ней он отмечает, что радуется тому, что «Дым» заслужил именно ее одобрение до мнения литературных критиков (см. об этом: [Петровская 2012: 63]). По любопытному совпадению, образы матери и дочери Каслвуд – Рэйчел и Беатриса – во многом инспирированы разрывом Теккерея с Джейн Брукфилд, тоже «роковой женщиной», к которой писатель питал безответные чувства. Об этом сложном моменте в жизни Теккерея пишет Энн Монсар-рат в книге с красноречивым названием – «Неудобный викторианец. Теккерей, человек; 1811– 1863» [Monsarrat 1980: 279–284]). Свидетельствуют, что Теккерей не раз прерывал их отношения, но по настойчивой просьбе Джейн возобновлял их. Именно они отражены в отношениях Эсмонда и Беатрисы Каслвуд, которые сам герой называет рабством и отказом от здравого смысла [Теккерей 1977: 325, 366]. Литвинов еще на московском этапе их отношений с Ириной «словно попал в водоворот, словно потерял себя» [Турге- нев 1968: 42]; еще тогда он ощущал что-то иррациональное в своем чувстве, а уже во время второй попытки обрести когда-то ускользнувшую от него любовь Ирины он чувствует нечто колдовское, томительно тяжелое, ноющее, даже страшное, роковое: «Он чувствовал одно: пал удар, и жизнь перерублена, как канат, и весь он увлечен вперед и подхвачен чем-то неведомым и холодным. Иногда ему казалось, что вихорь налетал на него, и он ощущал быстрое вращение и беспорядочнее удары его темных крыл…» [Тургенев 1968: 108]. И при этом Тургенев пишет: «Но решимость его не поколебалась» [там же]. Так и Генри Эсмонд долгое время говорил о Беатрисе: «Но она судьба моя!» [Теккерей 1968: 324] (“But she is my fate!” [Thackeray 1858: 297]).
В конце романов оба писателя живописуют драму освобождения героев от чар роковой женщины, но делают это по-разному. Теккерей, по ходу повествования рисуя любовь-страсть, рожденную в юности с ее экзальтированностью, повышенной чувственностью и черно-белым в и дением мира и себя, и организовав повествование как обращенную к внукам мемуарную ретроспективу, в духе викторианского времени дидактически подчеркивает неразумность демонического чувства, овладевшего мемуаристом в юности, и показывает, как исподволь у зрелеющего Эсмонда рождается любовь к Рэйчел Каслвуд, построенная не на страсти, а на прожитых вместе испытаниях и обретенная в результате общности мировоззренческих позиций. Тургенев же делает освобождение Литвинова от роковой любви психологически более болезненным для героя. Здесь важен образ Потугина, который помогает Литвинову пережить эту боль второго расставания с Ириной, с одной стороны, былью о новгородце Ваське Буслаеве, который в результате неудачной попытки перепрыгнуть камень на библейской горе Фавор, чтобы в одночасье обрести вечное счастье, «голову себе сломил» [Тургенев 1968: 157], и это намек на роковую безрассудность всей одержимости Литвиновым Ириной; с другой – напутствием приниматься за дело, смело идти вперед, быть пионером, тружеником. Именно поэтому Тургенев приводит Литвинова вновь к Татьяне как символу новой – деятельной и созидательной – жизни. Тем самым Тургенев виртуозно синтезирует идеолого-политическое и любовно-психологическое.
Итак, мы видим, сколь значительна обусловленная временем и особенностями развития мировой литературы во второй половине XIX в. содержательная и художественная генетикотипологическая близость двух замечательных мастеров социально-психологического реализма в осмыслении вечной темы страдательной любви и образа роковой женщины. Одновременно думается, что Тургенев наверняка разделял суждения Теккерея, вложенные в уста зрелого Эсмонда о не поддающейся объяснению неизбывной зависимости влюбленного мужчины от любимой женщины: «…если проследить путь каждого в жизни, непременно найдется женщина, которая или висит на нем тяжелым грузом, или цепляется за него, мешая идти; или подбодряет и гонит вперед, или, поманив его пальцем из окна кареты, заставляет сойти с круга, предоставив выигрывать скачку другим; или протягивает ему яблоко и говорит: “Ешь”; или вкладывает в руку кинжал и шепчет: “Убей! Вот перед тобою Дункан, вот венец и скипетр!”» [Теккерей 1977: 407]. Ироничное, но, по сути, отражающее устоявшееся в веках суждение о разрушительной роли любви к la femme fatale.