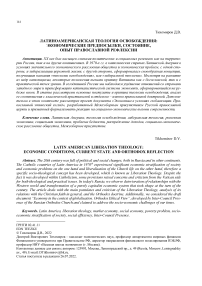Латиноамериканская теология освобождения: экономические предпосылки, состояние, опыт православной рефлексии
Автор: Тихомиров Дмитрий Викторович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики
Статья в выпуске: 4 (136), 2022 года.
Бесплатный доступ
ХХ век был насыщен сменами политических и социальных режимов как на территории России, так и на других континентах. В 1970-х гг. в католических странах Латинской Америки в условиях значительного экономического расслоения общества и экономических проблем, с одной стороны, и либерализации церковной жизни, с другой стороны, сформировалась своеобразная концепция, получившая названия «теологии освобождения», или «либеральной теологии». Несмотря на развитие из недр католицизма, некоторые положения вызвали критику Ватикана как с богословской, так и с практической точек зрения. В сегодняшней России мы наблюдаем ухудшение отношений со странами западного мира и трансформацию капиталистической системы экономики, сформировавшейся на рубеже веков. В статье рассмотрены основные постулаты и критика теологии освобождения, анализ ее соотношения с классической христианской и отдельно - именно православной доктриной. Дополнительно в этом контексте рассмотрен проект документа «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд», разработанный Межсоборным присутствием Русской православной церкви и призванный формализовать реакцию на социально-экономические вызовы современности.
Латинская америка, теология освобождения, либеральная теология, рыночная экономика, социальная экономика, проблема бедности, распределение доходов, социально-экономическое расслоение общества, межсоборное присутствие
Короткий адрес: https://sciup.org/148324765
IDR: 148324765
Текст научной статьи Латиноамериканская теология освобождения: экономические предпосылки, состояние, опыт православной рефлексии
ГРНТИ 02.41.11
EDN TEEZKU
Дмитрий Викторович Тихомиров – кандидат экономических наук, профессор департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ, директор направления финансового моделирования ВЭБ.РФ, профессор НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва).
Статья поступила в редакцию 26.07.2022.
Введение и актуальность
Актуальность темы обусловлена, главным образом, двумя причинами: усилившимся геополитическим интересом к региону Латинской Америки в текущих условиях и специфическим опытом рефлексии на социально-экономические проблемы региона, известным под общим названием теологии освобождения, который может иметь для нас интерес.
В течение нескольких десятилетий – особенно после перехода России к рыночной экономике с 1991 г. – основным регионом сотрудничества по экономическим, финансовым, образовательным и множеству иных аспектов были страны Западной и Восточной Европы. Пиком благополучных отношений можно считать 2005-2007 гг., на которые пришлось наиболее активное развитие реального сектора экономики и фондового рынков, бум рынка слияний и поглощений с участием зарубежных инвесторов, проведение саммита G8 в Санкт-Петербурге в 2006 г., при этом новое видение места и роли России с учётом реалий и угроз однополярного подхода в мировой политике было сформулировано в выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года (так называемая Мюнхенская речь).
Однако последовавший мировой финансовый и экономический кризис 2007-2008 гг., постепенное усиление государства в России и одновременная финансовая и информационная поддержка странами Запада оппозиционных настроений в нашей стране и недружественных настроений в соседних государствах (Грузия, Украина, страны Балтии) поэтапно усиливали напряженность. После вхождения Крыма в состав России в 2014 г. страны Запада и США вводили экономические санкции, открыто поддерживали раскольнические антироссийские группировки в Украине, а с начала 2022 г. отношения достигли наихудшего уровня со времен холодной войны с США. В зависимости от точки зрения конкретного автора, противоречия можно ограничивать только борьбой за ресурсы с учетом огромных природных ресурсов России, но можно трактовать и более широко – как борьбу консервативной и либеральной идеологий.
В этих условиях очевидный интерес приобретает активизация отношений с иными регионами. Одним из таких регионов являются страны Южной или Латинской Америки. Несмотря на удаленность и не столь значительное внимание в ежедневной информационной повестке, Россию и крупнейшие страны континента связывает много общего – от волн эмиграции из России в Аргентину, Бразилию, Парагвай со второй половины XIX века до инвестиций в нефтяные активы Венесуэлы.
При этом, несмотря на традиционную критику социально-экономического расслоения в России, положение в странах Латинской Америки является более острым. Экономическое и социальное расслоение в стране или регионе можно условно оценивать несколькими метриками, среди наиболее распространенных – отношение доходов 10% или 20% богатейшего населения соответственно к 10% или 20% беднейшего населения и индекс Джинни. В странах Латинской Америки ситуация выглядит одной из наиболее острых в мире: индекс Джинни в Бразилии и Колумбии в 2018 г. превышал 0,50 (по разным источникам, в предыдущие годы составлял от 0,54 до 0,57), в Мексике был равен 0,454, Аргентине – 0,414, Чили – 0,444, Перу – 0,428, Эквадоре – 0,454 (см.: https://svspb.net/danmark/gini.php ).
По данным различных статей и общедоступных источников, индекс Джинни в России в последние 30 лет находился в районе 0,4 (только в 1992 г. составлял 0,289; в 1993 г. – уже 0,407, в 2019 г. – 0,412, в 2021 г. – 0,408) (см.: https://www.ng.ru/economics/2022-06-21/1_8466_sidejob.html ), по данным иного источника – анализа НИУ ВШЭ [1] – индекс незначительно снижался с 0,415 в 2014 г. до 0,406 в 2020 г. При этом, по данным Люксембургского исследования доходов (LIS – Cross-National Data Center) [2], индекс Джинни в России существенно ниже, чем указанные значения, результаты федеральной статистики или данных Всемирного банка. Например, в 2018 г. он был равен 0,321 (сопоставимо со значениями в Великобритании, Германии, существенно ниже показателей в странах БРИКС, США).
В данной статье мы будем рассматривать не экономические, финансовые, торговые связи и отношения между Россией и странами континента, а духовно-этические основы взгляда на экономическую систему и экономические отношения с учетом общего и различий в сложившихся условиях. Интересно рассмотреть общее и различие в подходах теологии освобождения (по существу, это – направление католической мысли) и традиционных православных подходов к экономическим вопросам и этике экономических отношений. Сразу следует отметить, что теология освобождения не является чисто латиноамериканским феноменом и не бесспорно отвечает католическому миропониманию, а католичество в регионе имеет значительно более длительную историю и связано с присутствием начиная с XVI века.
Латинская Америка: родина теологии освобождения
Теология (богословие) освобождения (в исп. Teología de la liberación, в англ. Liberation Theology) – сложное социально-экономическое явление и направление мысли, возникшее во второй половине ХХ века в странах Латинской Америки. Основная идея – борьба с бедностью как источником греха, что включает широкий спектр вопросов – от возможности повышения образования до классовой борьбы в рамках марксистского подхода. Утверждается, что бедность противоречит божественному замыслу о человеке, не позволяет раскрывать таланты и реализовывать предназначение, унижает человеческое достоинство – что, по существу, уже является грехом, а также служит источником многих иных.
Предпосылками для формирования и развития концепции были факторы значительной бедности и социального расслоения в большинстве стран Латинской Америки – как среди коренных народов, так и среди иммигрантов различных волн, низкая грамотность и квалификация работников или неудовлетворительные условия жизни даже вполне образованных граждан, а далее – христианская рефлексия по вопросу возможных улучшений ситуации со стороны мыслящих кругов, в том числе католического духовенства. Практическими драйверами служили движения общин, студентов, рабочих, интеллектуалы-католики (деятельность так называемых низовых церковных общин, то есть групп верующих, добровольно принявших на себя заботу об образовании, здравоохранении, социальной защите в тех условиях, где деятельность государства оказывается недостаточной), а далее – либеральные реформы и в целом «повестка» Второго Ватиканского Собора 1962-1965 гг. В течение нескольких веков католицизм просто был привнесен на континент, начиная с этого времени формируется рефлексия о религии и вере «на угнетаемом континенте».
Сам термин получил распространение после выхода в 1971 г. работы перуанского католического доминиканского богослова Густаво Гутьерреса (род. 1928 г.) «Теология освобождения: перспективы». Помимо Гутьерреса наиболее известными представителями считаются бразильские богословы Леонардо Бофф (род. 1938 г.) и Уго Ассманн (1933-2008 гг.), аргентинский и мексиканский ученый, философ, историк и богослов Энрике Дуссель (род. 1934 г.); протестантский теолог Юрген Мольтманн (род. 1926 г.) также заложил базу для основных элементов теологии освобождения.
Приведем краткую характеристику социально-экономического состояния того времени. Л. Бофф и К. Бофф в книге «Как заниматься теологией освобождения» (1986 г.) приводят статистику бедственного положения людей во многих странах мира того времени, в т.ч.: 500 млн голодающего населения, 1,7 млрд человек с ожидаемой продолжительностью жизни ниже 60 лет, 1 млрд человек, проживающих в абсолютной бедности, 1,5 млрд человек без доступа к минимально необходимому медицинскому обслуживанию, 500 млн человек являлись безработными или недостаточно занятыми, при этом их доход составлял менее 150 долларов США; более 800 млн безграмотных и т.д. [3, p. 13]
На основе приведенной статистики авторы ставят диагноз обществу на разных уровнях: социальноэкономическом, общегуманистическом, религиозном. В социально-экономическом плане они делают акцент на коллективном угнетении, исключении бедных слоев из нормальной общественной жизни, маргинализацию. В гуманистическом плане – на несправедливость и унижение человеческого достоинства. В религиозном плане – называют сложившуюся ситуацию социальным грехом, говорят о том, что ситуация противоречит предназначению человека.
Очевидно, что теология освобождения имеет разное преломление у различных авторов и некоторым образом эволюционировала за пятьдесят лет, однако можно выделить основные черты и идеи:
-
• христианское спасение связано со свободой и освобождением человека во многих аспектах: экономическом, политическом, социальном, идеологическом, для спасения необходимо человеческое достоинство в широком смысле. Подчеркивается необходимость свободного принятия веры и евангельской доктрины, причем необходимо сначала обеспечить достойные условия жизни (в том числе, общедоступное образование, здравоохранение и прочее), после чего приобщать к своей вере;
-
• комплекс более практических и социальных идей, основанных на понимании бедности как общественного греха, необходимость справедливости и защиты жертв, применительно к Латинской Америке – акцент на том, что положение большей части народа не соответствует божественному замыслу, откуда вытекает логичный переход к необходимости освобождения народа, уничтожения эксплуатации, произвола и элементам классовой борьбы;
-
• при этом необходимо не просто изменение внешних условий и «борьба с бедностью», но изменение духа общества с акцентом на солидарность вместо спекулятивного менталитета и духа наживы, создание «нового человека».
Идеи теологии освобождения также получили популярность и в высших политических кругах, например, президенты Венесуэлы Уго Чавес (1954-2013 гг.), президент Эквадора Рафаэль Корреа (род. 1963 г.) неоднократно заявляли о симпатиях движению, а президент Парагвая Фернандо Луго (род. 1951 г.) является бывшим католическим епископом самой бедной епархии страны Сан-Педро.
В 1968 году в Медельине (Колумбия) состоялась конференция Латиноамериканского епископального совета (CELAM), на которой был обозначен «преимущественный выбор» Церкви Латинской Америки «в пользу бедных», озвучен факт того, что Латинская Америка эксплуатируется промышленно развитыми капиталистическими странами как источник сырья для благоденствия «первого мира». Несмотря на тесную связь в истории возникновения и развития с католицизмом и конкретными католическими деятелями, в целом существует много противоречий и критики со стороны ведущих католических богословов и иерархов. Наибольшую критику вызывает близость к идеям марксизма, диалектического материализма, тенденции к объединению с революционными движениями.
Конструктивную критику радикальным элементам теологии освобождения уже с конца 1970-х гг. представляли Папа Иоанн Павел II, кардинал Йозеф Ратцингер (будущий Папа Бенедикт XVI). Так, папа Иоанн Павел II на открытии епископальной конференции Латинской Америки CELAM в Пуэбле (Мексика) в 1979 г. выражал озабоченность социальным и экономическим расслоением общества, заметил, что институт частной собственности «должен вести к более справедливому и равному распределению благ» и даже возможна экспроприация/перераспределение в целях общего блага, однако подчеркнул, что «представление Христа как политической фигуры, революционера, подрывного элемента из Назарета не вяжется с катехизисом Церкви».
Наиболее видимые противоречия с католическим устройством представляла активность т.н. «первичных церковных общин» (англ. Ecclesial Base Communities), в связи с чем папа Иоанн Павел II также впоследствии подверг критике поддержку классовой борьбы, замещение католической церковной иерархии системой выборов и проч. Подходы к социальной организации и опыт «первичных христианских общин» выглядели достаточно радикальными, в том числе это стало затрагивать и схему проповедей и суточных богослужений по инициативе прихожан-мирян, а не традиционной иерархии. Иоанн Павел II напомнил о своей абсолютной власти согласно каноническому устройству Католической церкви.
Кардинал Йозеф Ратцингер также был последовательным противником некоторых элементов теологии освобождения, в частности во время руководства Конгрегацией доктрины веры Ватикана. По указанию Иоанна Павла II он подготовил «Инструкцию по некоторым аспектам теологии освобождения». Ватикан дважды – в 1984 и 1986 гг. – осуждал склонность теологии освобождения к марксизму и насилию. Ратцингер в целом приветствовал течения в движении, отвергающие насилие и подчеркивающие ответственность христиан за бедных и угнетенных, при этом указывал, что «в этой идеологии был риск нанесения вреда вере и христианскому образу жизни, обусловленный некоторыми формами теологии освобождения, которая использовала идеи, позаимствованные из разных течений марксистской мысли», доминированием «ортопраксиса» (правильные дела) над ортодоксией (правильная вера).
Смещение акцента с духовных вопросов на практический уровень, на повышение уровня жизни бедных и классовую борьбу было одним из главных видимых недостатков концепции со стороны католических теологов. Большинство евангельских примеров показывают, что чудеса и помощь бедным, больным и иным страждущим происходили из любви к ним, при этом отсутствуют примеры механического уравнивания всех и достижения общего благоденствия на постоянной или долгосрочной основе. В 1983 г. Йозеф Ратцингер подготовил «десять наблюдений» аспектов теологии одного из основателей и лидеров теологии освобождения Густаво Гутьерреса. Основные недостатки, по мнению Й. Ратцингера, – это политическое толкование Библии и поддержка мирского мессианизма. Перечислим несколько основных моментов данной критики (приведено по: https://zavtra.ru/blogs/mozhet_li_teolo-giya_osvobozhdeniya_stat_soyuznikom_rossijskoj_kontceptual_noj_vlasti ):
-
• марксизм является тоталитарной концепцией, как в общем, так и в частностях непримиримой с христианским откровением;
-
• насилие классовой борьбы является также насилием над любовью одних к другим и над единством всех во Христе;
-
• политизация положений веры и богословских суждений ведет к такому явному противоречию, когда человек, принадлежащий в силу своей добродетели к миру богатых, объявляется классовым врагом;
-
• новая герменевтика теологов освобождения ведет к новому, преимущественно политическому толкованию Священного Писания, к выборочности и произволу выбора мест из священных текстов, извращая радикальную новизну Нового Завета, освобождение от греха, источника всех зол;
-
• это есть также отказ от традиции как источника веры и недопустимое разделение на «Иисуса истории» и «Иисуса веры», происходящее за спиной церковного магистрата;
-
• классовое разделение оказывается и внутри церкви, что ведет к отрицанию её священной иерархической структуры, «разделяя мистическое тело Христа» на два течения – «официальное» и «народное».
В противоположность теологии освобождения подходы Папы Иоанна Павла II и Папы Бенедикта XVI иногда называют общим термином «теологии умиротворения».
Теология освобождения и православие: общее и противоречия
В конце XX – начале XXI вв. вопросы рефлексии о постулатах либеральной теологии в свете православия привлекали внимание ряда авторов «с обеих сторон», хотя данный интерес и нельзя назвать массовым. Среди основных авторов можно назвать доминиканского священника Амбросия Монг И-Рена (статья Towards an Orthodox Theology of Liberation: An Examination of the Works of Nicolas Berdyaev, 2013), священника Антиохийской православной церкви и профессора Филиппа ЛеМастера (статья Latin American Liberation Theology and Eastern Orthodox Social Ethics: Is a Conversation Possible? 2015), публицистические и научные статьи на популярных российских ресурсах ( https://www.pravmir.ru , https://bogoslov.ru , https://portal-slovo.ru и др.) и в блогах на историко-богословские или социально-экономические темы.
Очевидно, что основной общей базой является христианский фундамент и этика. Несмотря на разные практики, подходы, по существу, сформированы на схожем корпусе книг Библии и особенно Нового Завета. Например, Леонардо Бофф указывает на наиболее ценные для теологии освобождения книги Библии, в том числе Исход (представлен подвиг политико-религиозного освобождения массы рабов, которая становится силой божественного Завета, народом Божиим), Пророки (обличение несправедливостей, права угнетаемых), Евангелие (акцент на личности и уникальном смысле деяний Иисуса Христа), Деяния апостолов (события и жизнь освобожденной и освобождающей христианской общины), Апокалипсис и иные источники (Маккавейские книги, книги Ездры и Неемии) (подробнее – см.: [4, с. 465]).
При прямом обращении к тексту Библии и особенно Нового Завета можно привести аргументы как в логике теологии освобождения, так и иных акцентов. Материальное благополучие было характерно скорее для ветхозаветного периода. «И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» (Исх 3:7–8).
В Новом Завете акцент делается на духовное измерение и не предполагает революционное переформатирование социального устройства. Цитаты если не всегда противоречат, то существенно дополняют и зачастую смещают акценты. Из наиболее известных: «Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете» (Мк. 14:7), «Трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие <…> человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19:23-24), «Не Моисей, дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес; ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин: 6:32-32) и др.
Рассмотрим ответы по ключевым вопросам экономической и социальной этики со стороны представителей либеральной теологии и православия:
-
• рефлексия о божественном замысле и промысле о бедных.
Не следует упрощать «борьбу с бедностью» в либеральной теологии и забывать о том, что ее основатели и идеологи были католическими мыслителями и достаточно глубоко и хорошо знали как евангельский дискурс, так и сложности социального устройства. Например, еще в 1968 г. на упомянутой конференции Латиноамериканского епископального совета в Медельине (Колумбия) был принят документ, разграничивающий три вида бедности, в том числе: материальную бедность (недостаток средств для обеспечения приемлемого уровня жизни), духовную бедность (понимаемую как готовность совершать волю Божью) и солидарность с бедными (протест против сложившейся системы).
При этом Густаво Гутьеррес особенно подчеркивал, что латиноамериканская бедность прямо противоречит евангельскому пониманию, и, по его мнению, Церковь должна [5, c. 465]: обличать несправедливую материальную бедность как «возмутительное состояние»; проповедовать духовную нищету, которая предполагает по-детски открытые и доверительные отношения с Богом; добровольно принимать на себя материальную нищету в знак социального протеста и солидарности с наиболее угнетёнными слоями населения. Леонардо Бофф рассуждал о Марии: «Она думает не о Себе, а о других. Только тот может быть освободителем, кто освободится от себя самого и поставит свою жизнь на служение другим, как Мария, Иисус и Иосиф» [там же]. Таким образом, акт «любящей солидарности» с бедными, сущностный протест против бедности. «Бедность и нищета рождены обществом, а не природой или Промыслом. Они есть следствие того, как организовано общество» [6, с. 251].
Православное и в целом христианское отношение к бедности выглядит более сложным. Безусловно испытывая жалость и сострадание к угнетаемым, осуждая воровство и незаконное присвоение благ, многие мыслители и святые отцы не осуждали само расслоение по материальному признаку как таковое. Например, еще в 387 г. в беседе к антиохийскому народу архиепископ Константинопольский свт. Иоанн Златоуст говорит: «Вы смущаетесь, видя на земле богатых и бедных, и пользуетесь случаем обвинять Бога в несправедливости. Я же напротив говорю, что неравенство между нами по состоянию есть одно из доказательств Его Промышления. Не будь бедных – и у вас не было бы ни матросов, ни лоцманов, ни рабочих, ни кузнецов, ни хлебников. Кто стал бы заниматься каким-нибудь механическим ремеслом? Все было бы смятением и беспорядком. Бедность есть великая наставница людей: она побуждает и принуждает их к работе и к занятию ремеслами. Если бы мы все были богачами, мы все заснули бы в лености; домостроительство мира поколебалось бы и общество не могло бы существовать» (цит. по: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/ob_Anne ). Принимая во внимание аскетичность жизни свт. Иоанна, невозможно обвинить его в наличии какой-либо личной выгоды от сложившегося положения.
Можно найти сотни поучительных цитат как о необходимости сострадания и помощи бедным, так и о духовной пользе бедности. И все же на протяжении XIX-XXI вв. о недостатке внимания к этому говорили отечественные исследователи. Например, Н.В. Сомин указывает, что «православие в [дореволюционной] России занималось лишь воспитанием душ, приготовлением их к Царствию Небесному; социальная же сфера оставалась в тисках безблагодатного, по сути дела, ветхозаветного социального строя, вмещавшего крепостничество, эксплуатацию, резкое социальное неравенство, деление на «господ и рабов», что, конечно, абсолютно не совместимо со статусом православной империи. И чем дальше развивался русский проект, тем эти недостатки становились все более очевидными как для верхов, так и для низов» [7];
-
• действенная реакция на бедность и социальную несправедливость.
Как было отмечено, сторонники теологии освобождения выступали и выступают за существенную перестройку социальных, экономических, политических систем в целях улучшения положения бедных и наименее защищенных слоев. Гутьеррес пишет: «Теология освобождения не ограничивается размышлениями об окружающем мире, а стремится стать моментом процесса, способствующего его преобразованию» [8, p. 40].
Православный подход (в принципе, как и католический, не затронутый идеями либеральной теологии, особенно до либеральных реформ Второго Ватиканского Собора) на протяжении всей истории и в разных регионах присутствия предполагал помощь нуждающимся в условиях конкретной общественно-экономической формации и без рассуждений о смене системы и реформ общественных институтов, а еще больший акцент делался на принятие условий существования и на духовную жизнь вне существенной зависимости от внешних условий.
В ХХ веке одна из наиболее ярких личностей православного мира и российской эмиграции в Париже св. Мария (Скобцова) писала: «Я знаю, что нет ничего лицемернее, чем отказ от борьбы за сносное матерьяльное существование обездоленных под предлогом, что перед вечностью их матерьяльные беды ничего не значат. Я думаю, что человек может отказываться от любых из своих прав, но абсолютно не смеет отказываться от прав своего ближнего» [9, c. 138]. Мать Мария была участницей французского Сопротивления, тем не менее, основной акцент делала на свои ежедневные усилия помощи беднейшим слоям, посещая опийные притоны, портовые кабаки, утешала, пробуждала человеческое в людях из наименее защищенных социально-экономических слоев;
-
• отношение к марксизму.
Если по указанным выше аспектам позиции имеют зачастую общую базу, а явные противоречия наблюдаются только при чрезмерной примитивизации, то в отношении к марксизму линия разграничения прослеживается четко. Конечно, атеистический и материалистический подход явно отвергался представителями либеральной теологии. Тем не менее акценты на социальное и экономическое расслоение, необходимость самореализации человека, классовую борьбу сближает ее с марксистскими подходами.
В результате – попытки использовать марксистские концепции для проведения анализа общества, вопрос «имеет ли революция также теологическое значение» (Ричард Шолл, 1919-2002 гг.), развитие социалистического течения внутри христианства и сочетание марксизма и социально-христианского учения (Гутьеррес) и т.д. Подробнее – см. раздел «Марксизм как принцип» в упомянутой выше статье А.М. Хамидулина «Латиноамериканская теология освобождения как социальная теология».
Православные церкви и народы, значительно пострадавшие от коммунистических режимов ХХ века, построенных в существенной степени на марксистской идеологии, негативно относятся к марксистским концепциям. Естественно, негатив вызывает не критика западноевропейской буржуазной, индивидуалистской культуры, а конкретное воплощение в политической, социальной, экономической жизни стран;
-
• понимание роли Евхаристии в адекватном ответе на проблемы бедности.
Гутьеррес подчеркивал, что Евхаристия и евхаристическое единение Бога и человека является пустым действием в отсутствие реальной нетерпимости к эксплуатации, мотивации человека к улучшению социальной среды и т.д. Более радикальные случаи, как, например, ограничение евхаристического общения в связи с установками теологии освобождения (например, совершение Евхаристии только среди тех, кто участвовал в вооруженной борьбе против армии колумбийского государства лидером колумбийского партизанского отряда священником Камило Торресом) не являются распространенными и не получили значимого отражения в общедоступных источниках.
Теологии освобождения особенно свойственно понимание Евхаристии не как «духовного индивидуального акта», а в контексте единения с иными людьми и воплощения обращения к Богу о благословении мира. Конечно, это верная общехристианская интуиция, которая напрямую вытекает из двухтысячелетней практики и которой можно найти множество подтверждений, однако не в такой заостренной на социально-экономических отношениях форме.
Православный взгляд на экономику и экономическую этику: опыт России
В первой части статьи были рассмотрены предпосылки и причины возникновения теологии освобождения, противоречия с католической доктриной, общее и различия с православным подходом к проблеме. В данной части дополнительно рассмотрим рефлексию на социально-экономическую проблематику с позиции Русской православной церкви, основываясь на рассмотрении проекта документа Межсоборного присутствия «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд» (см.: https://msobor.ru/document/43 ).
Сразу отметим ограниченность подхода, поскольку документ до сих пор не был завершен и официально принят, а также в силу того, что мы не рассматриваем детально опыт иных поместных Церквей (Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и т.д.). Например, известно, что на соборе десяти автокефальных Православных Церквей на о. Крит в 2016 году данные вопросы не были частью повестки обсуждения. В то же время данная проблематика была затронута в Послании предстоятелей православных церквей от 12 октября 2008 года, в т.ч. пункт 8 послания гласил: «Пропасть между богатыми и бедными драматически разрастается вследствие экономического кризиса, который является ре- зультатом извращенной экономической деятельности, лишенной человеческого измерения и не служащей подлинным потребностям человечества, а также погони финансистов за наживой, часто приобретающей маниакальный характер. Жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и общественной солидарностью» (цит. по: http://www.patriarchia.ru/db/text/ 473056.html).
Прежде чем перейти к содержательной части документа, необходимо сказать несколько слов об институте Межсоборного присутствия. Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти Русской православной церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской православной церкви. Межсоборное присутствие задумывалось как механизм общецерковного обсуждения вопросов, поставленных на заседаниях Поместного собора.
В течение 2009-2020 гг. Межсоборным присутствием был разработан ряд документов, в том числе значимых для общественной жизни населения, не принадлежащего к православной вере. Среди наиболее важных можно выделить документ «Об участии верных в Евхаристии» (2015 г.), «Пассия как элемент богослужения Русской Православной Церкви» (2019 г.), в значительной степени проработки находится документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» (2020 г.) и др. В то же время некоторые документы могут в течение длительного периода (несколько лет) находиться в процессе доработки – например: «Профессии, совместимые и несовместимые со священством» (опубликован 25 января 2017 г.), рассматриваемый в данной статье проект документа «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд» (направлялся в епархии 23 мая 2016 г.) и др.
Несмотря на значительное внимание Межсоборному присутствию и прогресс в части процедур, состава комиссий и качества ряда документов, можно выделить недостатки всего процесса: незначительная осведомленность мирян-профессионалов о работе Межсоборного присутствия и соответственно их низкая активность в формировании документов, в ряде случаев – недостаточный уровень дискуссией в общедоступных средствах обмена информацией и проч.
Итак, рассматриваемый в данной контексте проект документа был опубликован на сайте Межсоборного присутствия еще в 2015 г. и собрал несколько обширных критических отзывов, однако так и не был существенно переработан и завершен до настоящего времени. В проекте документа даются общие подходы к пониманию глобализации, необходимость преодоления неравенства, рачительного использования земных богатств, равноправного международного сотрудничества и проч. В тексте документа приводится цитата из указанного выше Послания предстоятелей православных церквей от 2008 года: «Жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и общественной солидарностью».
Среди недостатков мирового экономического устройства отмечены несправедливое распределение благ между странами, значительное социальное расслоение внутри отдельных государств: «Если в первые десятилетия после Второй Мировой Войны разница в уровне жизни между богатыми и бедными, по крайней мере в развитых странах, сокращалась, то теперь статистика демонстрирует обратную тенденцию. Сильные … всё более пренебрегают интересами слабых – как в отношении социальной защиты не способных к труду детей и стариков, так и в отношении достойного вознаграждения трудоспособных работников. Увеличение имущественного расслоения содействует умножению грехов, поскольку провоцирует похоть плоти на одном полюсе, зависть и гнев – на другом». «Алчность теневых властителей глобальной экономики ведёт к тому, что тончайший слой «избранных» становится всё богаче и одновременно всё больше освобождается от ответственности за благополучие тех, чьим трудом эти богатства созданы».
Соглашаясь с общим критическим посылом, хотелось бы рекомендовать продумать более конкретные идеи или рекомендации по изменению ситуации. Например, можно поспорить с тезисом об «алчности теневых властителей», поскольку даже вполне прозрачные бизнес-структуры и крупнейшие публичные компании могут получать сверхприбыли за счет грамотно выстроенной и зачастую спекулятивной и переоцененной деятельности (чрезмерно раздутые финансовая сфера, сфера консалтинга в определенных сегментах, индустрия развлечений и проч.).
Тем более, что столь важный вопрос о справедливом распределении экономических ресурсов и доходов от ресурсов уже был затронут в концептуальном документе более высокого уровня «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви от 2008 г.». Так, в подразделе XVI.3 раздела XVI.
Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма указано: «Церковь ставит вопрос о всестороннем контроле за транснациональными корпорациями и за процессами, происходящими в финансовом секторе экономики. Такой контроль, целью которого должно стать подчинение любой предпринимательской и финансовой деятельности интересам человека и народа, должен осуществляться через использование всех механизмов, доступных обществу и государству» (цит. по: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html ).
Как было указано в начале статьи, традиционно для измерения социально-экономического расслоения в обществе используют известные коэффициенты и данные статистики, например, рассмотренные сравнения по индексу Джинни. Однако данные коэффициенты не всегда можно интуитивно осознать и тем более выработать конкретные рекомендации для улучшения ситуации. В целях повышения конкретики можно рассмотреть выборку крупнейших компаний России и внимательно посмотреть на абсолютные показатели компаний. Картину соотношения коммерческого успеха и социального эффекта можно продемонстрировать на примере несложных статистических данных – распределения доходов крупнейших компаний, используя данные официально публикуемой консолидированной отчетности, сгруппированные в таблице.
Таблица
Избранная финансовая информация по крупнейшим 20 компаниям
|
Компания |
Выручка, 2019, млрд |
Прибыль (EBITDA), |
Инвестиции, 2017- |
Дивиденды, 2018-2019, |
Налоги, 2019, |
Денежные средства и эквива- |
|
руб. |
2017-2019, млрд руб. |
2019, млрд руб. |
млрд руб. |
млрд руб. |
ленты, 1П 2021, млрд руб. |
|
НК «Роснефть» |
8 676 |
5 173 2 760 |
612 |
2 858 |
1 298 |
|
ПАО «Газпром» |
7 660 |
6 161 4 821 |
760 |
1 766 |
1 443 |
|
НК «ЛУКОЙЛ» |
7 841 |
3 197 1 413 |
477 |
1 079 |
563 |
|
ПАО «Газпром нефть» |
2 485 |
1 704 1 195 |
348 |
676 |
345 |
|
ПАО «Сургутнефтегаз» |
1 571 |
1 356 471 |
81 |
740 |
1 531 |
|
ПАО «Магнит» |
1 369 |
323 186 |
74 |
29 |
129 |
|
ПАО «Россети» |
1 010 |
829 668 |
15 |
28 |
122 |
|
ПАО «Транснефть» ПАО «Интер РАО» |
1 064 1 032 |
1 340 846 325 83 |
78 38 |
83 24 |
413 287 |
|
НК «Татнефть» |
955 |
849 280 |
422 |
366 |
141 |
|
ПАО "ЭН+ ГРУП" |
151 |
430 138 |
0 |
1 |
300 |
|
ПАО АНК «Башнефть» |
855 |
486 179 |
79 |
238 |
8 |
|
Группа НЛМК |
653 |
563 148 |
440 |
33 |
64 |
|
ПАО НОВАТЭК |
863 |
678 275 |
80 |
180 |
114 |
|
АФК «Система» |
657 |
708 354 |
30 |
32 |
201 |
|
ГМК Норникель |
878 |
1 148 301 |
484 |
120 |
56 |
|
Аэрофлот |
678 |
253 48 |
37 |
- |
94 |
|
ПАО «Северсталь» |
505 |
518 157 |
324 |
34 |
57 |
|
ПАО «ММК» |
468 |
394 153 |
138 |
16 |
79 (2020 г.) |
|
ПАО «МТС» |
476 |
624 268 |
154 |
18 |
133 (2020 г.) |
|
Итого |
39 847 |
21 888 11 983 |
4 659 |
8 321 |
7 378 |
Источник: анализ автора на основе данных системы Рейтерс и финансовой отчетности компаний.
С этой целью было выбрано только 20 крупнейших компаний, по общему размеру выручки с учетом возможных межгрупповых оборотов, формировавших порядка трети ВВП России в 2019 г., который по данным Росстата составил 110 трлн руб. (см.: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/81201). (2020 г. выглядит недостаточно репрезентативным с учетом эффекта локдаунов 2019-2020 гг., данные за 2021 г. не полностью доступны на момент написания статьи, однако эти ограничения никак не меняют общую картину обзора.) В анализе автор использовал данные информационной системы Рейтерс и финансовую отчетность, публикуемую на сайтах указанных компаний.
Наиболее интересным в контексте статьи выглядит сравнение общей прибыли (EBITDA – прибыль до расходов по процентам, налогу на прибыль и амортизации) с инвестициями, дивидендами и уплаченными налогами за два/три года обзора. В целом, превышение инвестиций и налогов над дивидендами выглядит положительным фактом, однако все равно обращает на себя внимание как общая значительная сумма дивидендов (4,7 трлн руб.), так и превышение уплаченных дивидендов над инвестициями или общей суммой расхода по налогам по некоторым компаниям. Например, ГМК «Норникель» за данный трехлетний период инвестировала в развитие порядка 300 млрд руб., уплатила налог на прибыль в 2019 г. на сумму 120 млрд руб. (сумма остальных налогов менее существенна), при этом распределила дивиденды акционерам за два года на сумму почти 500 млрд руб. Расширение выборки до 500 крупнейших компаний показывает, что более 50 из 500 компаний сумма дивидендов 2020 г. оказалась больше, чем сумма их инвестиций в развитие и поддержание активов.
В связи с этим особенно интересно сравнение отдельных социальных или иных общественно-значимых проектов, размеров благотворительных фондов и т.п. с прибылью или дивидендами крупного бизнеса. Например (см.: http://government.ru/news/44168 ), общий объем средств федерального бюджета на строительство школ в России в 2021–2024 гг. составляет 234,7 млрд руб. (то есть менее суммы дивидендов некоторых отдельных компаний), общий бюджет главного храма Вооруженных сил Российской Федерации составлял порядка 6 млрд руб. (затраты сопоставимы с суммой дивидендов некоторых крупных компаний за 1-2 недели их деятельности), годовой объем средств фондов Милосердие.ру или фонда В. Потанина составляют порядка 0,1 и 1,8 млрд руб. (см.: https://www.miloserdie.ru/news/fond-potanina-potratil-bolee-18-mlrd-rublej-na-podderzhku-soczialnyh-proektov-v-2021-godu ) соответственно, то есть выглядят незначительными с учетом прибыли и дивидендных доходов акционеров крупного бизнеса.
В п. 2 документа также подчеркивается важность достойного уровня оплаты труда. «Сильные не имеют морального права пользоваться своими преимуществами за счёт слабых, но напротив – обязаны заботиться о тех, кто обездолен. Люди, работающие по найму, должны получать достойное вознаграждение. Поскольку они совместно с работодателями участвуют в создании общественных благ, то уровень жизни работодателя никак не может расти быстрее уровня жизни работников». Для понимания того, насколько несправедливо занижен уровень оплаты труда в той или иной компании достаточно сравнить расходы на фонд оплаты труда в финансовой отчетности с показателями коммерческого успеха компании (операционной или чистой прибылью, уплачиваемыми акционерам дивидендами, рыночной стоимостью капитала компании и т.д.).
На взгляд автора было бы полезно проработать конкретные меры и, пусть в общих чертах, указать механизмы регулирования в целях повышения социальной и бюджетной ответственности бизнеса перед обществом.
Недостаточно проработанным выглядит раздел 3 «жизнь взаймы». Действительно, в христианском корпусе сформировано негативное отношение к механизму кредита, однако это справедливо затрагивало преимущественно личные финансы, подчеркивалась рискованность кредита с учетом возможных сложных жизненных ситуаций, недопустимость обогащения за счет предоставления средств нуждающимся и т.п.
Архиепископ, церковный писатель и богослов свт. Василий Великий (330-379) писал (цит. по: https://predanie.ru/book/219971-vasiliy-velikiy-o-bogatstve-i-bednosti-sobstvennosti-i-dengah): «Крайне бесчеловечно, когда один, имея нужду в необходимом, просит взаем, чтобы поддержать жизнь, другому не довольствоваться возвращением данного взаем, но придумывать, как извлечь для себя из несчастий убогого доход и обогащение». А также: «Никакого нет стыда быть бедным, для чего же навлекаем на себя позор, входя в долги? Никто не лечит раны раною, не врачует зла злом, и бедности не поправишь платою роста. Ты богат? Не занимай. Ты беден? Также не занимай. Если имеешь у себя достаток, то нет тебе нужды в долгах. А если ничего не имеешь у себя, то нечем будет тебе заплатить долг. Не предавай жизнь свою на позднее раскаяние, чтобы тебе не почитать счастливыми тех дней, в которые ты не платил еще роста».
В то же время необходимо учитывать, что механизм кредита в современных условиях по существу является финансовым рычагом для бизнеса при реализации новых проектов, модернизации производства, а также в личных финансах при умеренном уровне заимствований в условиях роста цен на необходимый актив. Таким образом, более конструктивной в документе выглядела бы не просто или не только критика идеи кредита, а напоминание о необходимости критического отношения к потребности в условиях навязчивой атмосферы общества потребления, осмотрительного отношения к уровню долга и стоимости долга, анализа рисков и возможных негативных сценариев развития событий и проч. – опять же это применимо как в корпоративных, так и в личных финансах.
Справедливыми выглядят следующие пункты проекта документа, в которых отмечены: негативные стороны миграционных потоков (п. 4), возрастание нагрузки от деятельности человека на окружающую среду (п. 5), коммерциализация культурной жизни (п. 6) и др. Тем не менее здесь также была бы полезна конкретизация возможных усилий как регулирующих органов, так и бизнес-сообщества и отдельных граждан. Например, в части экологических вопросов можно напоминать о необходимости ответственного ведения деятельности бизнесом любого уровня, детальной экспертизы новых проектов на предмет возможных ущербов окружающей среде, бережного отношения к природе всех граждан, стимулирования волонтерских движений по очищению среды от физического и информационного мусора и проч и проч.
Текущая ситуация и перспективы
В статье рассмотрены основные предпосылки и постулаты теологии освобождения, возникшей в странах Латинской Америки во второй половине ХХ века в ответ на социально-экономические проблемы, накопившиеся в регионе, и в условиях либерализации католической жизни и мысли этого периода. Несмотря на то, что направление возникло в католической среде, оно получило неоднозначную оценку со стороны Римско-католической церкви.
В настоящее время острая фаза споров отчасти пройдена, однако вопросы экономической этики и духовных проблем современного капиталистического общества периодически волнуют как зарубежных, так и отечественных авторов. Так, в статье рассмотрены некоторые подходы Русской православной церкви, которые еще не полностью сформулированы в корпусе доступных документов.
В 2022 г. руководство Межсоборного присутствия вернулось к проекту документа 2015 года «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд»: 21 июня 2022 г. в Москве прошел круглый стол со схожим названием «Экономика и глобализация: православный этический взгляд» (см.: http://www.patriarchia.ru/db/text/5939019.html ). Были высказаны опасения по поводу негативных явлений глобализации и текущих международных конфликтов, необходимости «разработки реалистичных механизмов построения отвечающего требованиям времени институционального и технологического порядка», затронуты текущие проблемы коррупции и невысокого среднего уровня оплаты труда в России и проч. Тем не менее большинство тезисов участников еще выглядят недостаточно конкретными и требуют продолжения работы над документом.
Следует отметить, что рассмотренный в статье документ собрал ряд критических замечаний и комментариев на официальном сайте Межсоборного присутствия, некоторые из которых весьма обширны и глубоки по содержанию – например, это отзывы Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова и прот. Всеволода Чаплина от 2016 г. В данной статье не представилось возможным повторить и детально разобрать данные тезисы, однако их критический анализ и учет в проекте документа, а также рассмотрение новых замечаний и дополнений могут послужить темой отдельного обзора.
Список литературы Латиноамериканская теология освобождения: экономические предпосылки, состояние, опыт православной рефлексии
- Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения. Апрель 2021 / под ред. Л.Н. Овчаровой. М.: НИУ ВШЭ, 2021.
- Мареева С.В., СлободенюкЕ.Д. Неравенство в России на фоне других стран: доходы, богатство, возможности. Аналитический доклад. М.: НИУ ВШЭ, 2021.
- Boff L., Boff C. Como Fazer Teología da Libertac, ao. Petropolis. 1986. 141 p.
- Выжанов И., прот. Теология освобождения в Римско-Католической Церкви: история движения, часть 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://portal-slovo.ru/theology/44804.php (дата обращения 11.06.2022).
- Хамидулин А.М. Латиноамериканская теология освобождения как социальная теология // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2018. С. 459-473.
- Бофф Л. Социальная экология: бедность и нищета // Экотеология: голос севера и юга. М., 1997, с. 282-294.
- Сомин Н. Православный социализм как русская идея. М., 2015. 544 с.
- Gutierrez G. Teologia de liberacion. Salamanca, 1985.
- Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. Париж, 1947. 166 с.
- БердяевН.А. Истоки и смысл русского коммунизма. СПб.: Изд-во Азбука, 2016. 224 с.
- Бердяев Н.А. Смысл истории. СПб.: Изд-во Азбука, 2017. 256 с.
- Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. М.: Изд-во Директ-Медиа, 2008. 332 с.
- Великанов П., прот. Опыт интернет-обсуждения документов Межсоборного присутствия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bogoslov.ru/article/2413716 (дата обращения 11.06.2022).
- Крылов П.В. Теология освобождения в Латинской Америке: социальные идеалы и политическая практика // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. Теория, практика, методология. М., 2015. С. 6-18.
- Blake L. John Chrysostom on Almsgiving and the Use of Money // Harvard Theological Review. 1994. № 87 (1).
- Bouteneff P. Liberation: challenges to modern orthodox theology from the contextual theologies // Union Seminary Quarterly Review. 2012. № 3-4.
- Clément O. Orthodox Reflections on 'Liberation Theology // St. Vladimir's Theological Quarterly. 1985. № 29 (1).
- Gutierrez G. A Theology of Liberation. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1973. 265 p.
- Hayes S. Orthodoxy and liberation theology // Journal of Theology for Southern Africa. 1990. № 73.
- LeMasters Ph. Latin American Liberation Theology and Eastern Orthodox Social Ethics: Is a Conversation Possible? // Water Wheel. 2015. November. Р. 11-15.
- Moltmann J. Theology of Hope. New York: Harper & Row, Publishers, 1967. 344 p.
- Mong Ih-Ren A. Towards an Orthodox Theology of Liberation: An Examination of the Works of Nicolas Berdyaev // International Journal of Orthodox Theology 2013. № 4 (2). Р. 43-74.
- NegrovA. An overview of liberation theology in orthodox Russia. HTS 61(1&2). 2009. PP.327-345.