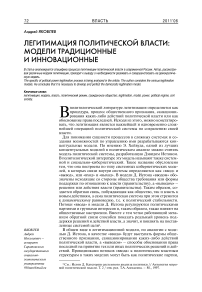Легитимация политической власти: модели традиционные и инновационные
Автор: Яковлев Андрей Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется специфика процесса легитимации политической власти в современной России. Автор, рассматривая различные модели легитимации, приходит к выводу о необходимости развивать и совершенствовать ее демократическую модель.
Легитимация, модель, власть, политический режим, гражданское общество
Короткий адрес: https://sciup.org/170165889
IDR: 170165889
Текст научной статьи Легитимация политической власти: модели традиционные и инновационные
В политологической литературе легитимация определяется как процедура, процесс общественного признания, санкционирования каких-либо действий политической власти или как обоснование права последней. Исходя из этого, можно констатировать, что легитимация является важнейшей и одновременно сложнейшей операцией политической системы по сохранению своей власти.
Для понимания сущности процессов в сложных системах и создания возможностей по управлению ими разрабатываются концептуальные модели. По мнению Э. Хейвуда, одной из лучших концептуальных моделей в политическом анализе можно считать модель политической системы, разработанную Дэвидом Истоном. В политологической литературе эту модель называют также системной и социально-кибернетической. Такое название обусловлено тем, что она построена по типу системных кибернетических моделей, в которых связи внутри системы определяются как «ввод» и «вывод», или «вход» и «выход». В модели Д. Истона «вводом» обозначены исходящие со стороны общества требования или формы поддержки по отношению к власти (правительству), а «выводом» – решения или действия власти (правительства). Таким образом, создается обратная связь, побуждающая как общество, так и власть к новым действиям, а сама политическая система при этом стремится к динамическому равновесию, т.е. к политической стабильности. Потоки «ввода» в модели Д. Истона регулируются политическими партиями и группами интересов и, таким образом, также влияют на общественные настроения. Вместе с тем четко работающий механизм обратной связи способен показать реальный уровень поддержки решений и действий власти, а значит, и повлиять на поставленные системой цели1.
В общем виде в легитимационной модели, по аналогии с моделью Д. Истона, в качестве «ввода» будут выступать формы общественного признания, санкционирования каких-либо действий политической власти, а «выводом» – способы обоснования права последней на принятие тех или иных политических решений и действий. Проводниками потоков «ввода» к политическим властным структурам в таких моделях могут быть как политические партии, так и разного рода общественные объединения и даже отдельные лидеры партий или объединений.
В качестве базовых можно использовать модели легитимации политической власти, основу которых составляют «три чистых типа легитимного господства» М. Вебера.
В рациональной модели легитимации политической власти в качестве «ввода» будут выступать оценки населением действий политической власти, основанные на соответствии последних установленному порядку, а в качестве «вывода» – деятельность этой власти, особенно лидеров партии власти, по поддержанию веры «в легальность установленного порядка и законность осуществления господства». Основным механизмом, запускающим рациональную модель легитимации, является борьба за власть политических партий и получение ими «мандата» на власть в результате прямого голосования избирателей. Кроме этого, в качестве одного из способов поддержания легитимации политической власти в рамках рациональной модели может использоваться референдум, поскольку он является одной из форм прямого голосования избирателей.
В традиционной модели легитимации политической власти потоки «ввода» будут определяться верой населения в авторитет власти, основанной на уважении обычаев и традиций по преемственности власти в конкретном социуме. А, соответственно, потоки «вывода» – деятельностью политической власти по поддержке традиционных форм коллективного сознания и поведения. Такими моделями легитимации могут быть представлены разного рода монархии с сильными религиозными традициями. В рамках традиционной модели религиозные лидеры могут занимать высшие посты в политической иерархии или государственных структурах. Религиозные догматы и традиции являются основным инструментом легитимации политической власти в таких монархиях.
И наконец, в харизматической модели легитимации политической власти «вводная» часть представлена верой народа в личные качества политического лидера, вождя или его клана. Деятельность политической власти в рамках харизматической модели направлена, прежде всего, на поддержание и укрепление своего «образа» как героической силы, способной наве- сти и удержать легитимный порядок в конкретном социуме. Харизматическими моделями легитимации описываются как монархии, так и тоталитарные политические режимы, основанные на жесткой идеологической схеме.
Следует отметить, что в реальной политической жизни современного общества базовые модели легитимации политической власти в «чистом» виде практически не встречаются, однако их отдельные сущностные характеристики составляют неотъемлемую часть большинства современных моделей. Для рассмотрения последних необходимо обратиться к основным типам легитимности, выделенным на сегодняшний день в политологической литературе. Множество типологизаций легитимности политической власти, предлагаемых современными политологами, можно свести к нескольким интересным попыткам, обобщающим накопленный в этой области исследований опыт и позволяющим выстраивать модели легитимации, соответствующие новым реалиям.
В ряду таких попыток выделяется системный анализ власти, предложенный американской школой политологии во главе с Д. Истоном. Д. Истон предложил использовать ценностно-нормативный подход к анализу типов поддержки власти, позволивший ему выделить два основных типа легитимности политической власти: диффузную и специфическую. Под диффузной легитимностью он понимал «фундаментальную», или долговременную, «аффективную поддержку идей и принципов политической власти». Причем такого рода эмоциональная поддержка будет оказываться при любых результатах деятельности политической власти. Специфическая легитимность, по Д. Истону, напротив, имеет своей целью результат и поэтому базируется на осознанной поддержке политической власти. Такая легитимность кратковременна и зависит от конкретной ситуации. Вместе с тем в политологической литературе конца прошлого века, кроме этих типов легитимности Д. Истона, были выделены дополнительные, так называемые смешанные типы поддержки политической власти: диффузно-специфическая и специфически-диффузная легитимности, позволяющие с большей точностью определять уровни поддержки власти.
Яркий представитель современной французской политологической школы политолог Ж.-Л. Шабо предложил рассматривать «некую тетралогию: четыре типа легитимности, сгруппированных по два в соответствии с тем, относится ли данный тип легитимности непосредственно к политическим акторам или к парадигме политического действия»1. В качестве определяющего элемента феномена власти он выделил отношение «при-казание/подчинение», которому соответствуют «два главных актора – управляемые и управители». Поэтому, по мнению Ж.-Л. Шабо, политическая власть «легитимизируется прежде всего относительно них: она должна соответствовать волеизъявлению управляемых (демократическая легитимность) и сообразовываться со способностями управителей (технократическая легитимность)».
Демократическая легитимность, по Ж.-Л. Шабо, представляет собой «перенос на все общество механизма принятия решения индивидом: выражение свободной воли, но в том смысле, что данная коллективная свободная воля проистекает от индивидуального проявления свободного суждения». Механизм перехода от индивидуального к коллективному основан на мажоритарном принципе (принципе большинства), являющемся универсальным для всех демократических режимов, т.е. его используют как для выбора представителей народа, так и для голосования во время принятия законов и решений в коллегиальных исполнительных структурах. Однако, по мнению Ж.-Л. Шабо, механизм демократической легитимности, основанный на социальной и политической математике, нуждается в дополнительном уточнении, поскольку не безупречен и не защищен от ошибок. «Есть немало примеров того, – отмечает он, – как демократические механизмы, с помощью, разумеется, определенных исторических обстоятельств, способствовали утверждению авторитаризмов, диктатур и тоталитаризмов с их политической практикой, порицаемой именно с точки зрения главного основания этих самых механизмов: человеческого достоинства и связанных с ним принципов». Поэтому Ж.-Л. Шабо приходит к выводу, что демократическая легитимность относительна и «нуждается в подпорке другими типами легитимности».
Другим типом легитимности, по Ж.-Л. Шабо, является технократическая легитимность. Он считает, что, с точки зрения властителей, «политика принимает характер ремесла, что предполагает наличие особенных знаний и опыта». Властвование как «ремесло» определяется «способами доступа к власти» и «содержанием процесса ее осуществления». В разные времена человеческой истории эти параметры менялись от силы как преимущественного способа достижения власти, до искусства владения не только оружием и стратегическим мышлением, но и словом, а позднее и – культурой устного и письменного общения (риторикой), основанной на знании философии, истории и права.
XX в., считает Ж.-Л. Шабо, привнес новшества, которые «касались структуры государства и природы политического общения (коммуникации)», изменив тем самым содержание процесса осуществления власти. Так, «государство всеобщего благосостояния, вмешивающееся во все и вся, порождающее неповоротливые и разнообразные административные аппараты, требовало как можно больше компетенции в том, что было названо “публичным менеджментом”». Для руководящей элиты, кроме ораторского искусства и правовых знаний, уже требуется знание экономики и основных общественных наук. А во второй половине этого века с развитием средств информации такая элита должна уже была «обладать и развивать актерские качества соответственно канонам массового аудиовизуального общения».
Ж.-Л. Шабо выделяет еще два типа легитимности: идеологическую и онтологическую. Первая возникает в том случае, когда политическая власть легитимизирует себя, имея в виду «субъективные представления о желаемом социальном порядке». Вторая – когда политическая власть легитимизирует себя «в соответствии с космическим порядком», частью которого и является социальный порядок.
Онтологическая легитимность, по Ж.-Л. Шабо, представляет собой соответствие политической власти объективному порядку, определяющему человеческую и социальную действительность и являющемуся продолжением порядка «космической действительности». Следовательно, человек в своих моральных принципах и социальных действиях должен быть подчинен естественным, природным законам, составляющим то, что Ж.-Л. Шабо называет «оптимальным структурным свершением для человечества». Однако на практике человек, используя свою свободу и волю, способен отходить от этих законов и даже противостоять им. Таким образом, уровень онтологической легитимности политической власти заключается в степени соответствия тому «глубинному порядку бытия, который человек ощущает врожденно, но которому он может противостоять».
Авторитарно-принудительная модель легитимации может базироваться и на демократической легитимности. Так, Платон в «Государстве» пришел к выводу, что «тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство»1.
Можно констатировать, что к сегодняшней российской ситуации применимы несколько моделей легитимации, в которых в той или иной степени используются элементы базовых моделей – рациональной, традиционной и харизматической.
Например, рациональная или, по М. Веберу, легальная модель легитимации политической власти в современной России представлена в «усеченном» виде: с гипертрофированно развитыми связями, составляющими потоки «вывода», и практически исчезающими потоками со стороны «ввода». Субъект политической власти – партия «Единая Россия» – доминирует во всех органах законодательной и исполнительной власти, в информационном поле государства; она в основном контролирует и распределяет властные, экономические и финансовые ресурсы по своей вертикали. Все эти действия, с одной стороны, приводят к относительной стабильности внутри общества, а с другой – разрушают механизм обратной связи, который только и может показать реальный уровень поддержки решений, действий и целей этой власти.
Фактически сегодня в российском обществе происходит отказ, как со стороны управляющих, так и управляемых, от ряда процедур, на которых базируется демократическая модель легитимации: периодичность избрания, всеобщее избирательное право, плюрализм мнений и свобода их выражения, разделение властей, принцип чередования власти и т. п. При этом со стороны высших уровней власти все настойчивее звучат призывы к необходимости проведения реформ в политической системе России. Так, президент РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении в видеоблоге 24 ноября 2010 г. отметил «симптомы застоя» в политической жизни страны и заявил о необходимости поднимать «уровень политической конкуренции». Он выделил основные аспекты программы преобразования политической системы России, которая, по его словам, «поэтапно реализуется уже в течение двух лет», и наметил в этой связи главные задачи, стоящие перед властью. «Мы хотим сделать нашу политическую систему просто более справедливой. Более гибкой, более динамичной, более открытой к обновлению и развитию. Она должна пользоваться большим доверием наших избирателей», – заявил президент РФ.
К традиционной модели легитимации политической власти в России можно отнести уважение к ней со стороны большинства населения, которое участвует в выборах представителей власти, традиции преемственности власти и деятельность последней по поддержке такой формы коллективного сознания. В рамках этой модели лидеры партии власти, занимающие высшие посты в государственной иерархии, легитимируют свои действия, поддерживая в основном слои населения, которые пока еще сохраняют верность традициям преемственности власти и участия в выборах ее представителей. Однако и в этой модели, как и в демократической, постепенно происходит разрушение механизма обратной связи, поскольку потоки со стороны «ввода» представлены в основном старшими группами населения, традиционные формы коллективного сознания которых сложились еще при советской власти. Для применения полноценной традиционной модели легитимации политической власти необходим достаточно длительный с исторической точки зрения временной отрезок, поскольку должны сформироваться такие формы коллективного сознания, как традиции, т.е. формы, имеющие экстраполяцию в историческом и социальном времени. Поэтому пока эта модель легитимации в ее полноценном виде не может быть применена к реалиям российской политической системы.
В современных российских условиях вариант харизматической модели легитимации политической власти представлен верой широких слоев населения в личные качества лидера партии власти. Для легитимации действий и решений политической власти регулярно используется информационный ресурс в сфере массовых телекоммуникаций. Например, лидер партии власти участвует в видеоконференциях, транслируемых федеральными каналами, с жителями различных регионов страны, которые напрямую обращаются к нему со своими проблемами и вопросами. Такая форма легитимации призвана не только поддержать харизму и авторитет лидера в массовом сознании, но и показать действенность усилий власти по улучшению условий жизнедеятельности населения страны в целом.
В то же время в Интернете «поколение next», которое еще называют «сетевым поколением», создает свою модель мировосприятия современных российских реалий, которая сильно отличается от модели, транслируемой средствами массовой информации, подчиненными политической власти. Этот феномен подтверждается и исследованиями социологов. Например, директор Института социологии РАН М.К. Горшков отмечает: «В общество входит новое поколение людей, у которых градус терпимости понижен. Столько, сколько старшие, они терпеть не будут. Это положительный признак. Потому что на терпимости народа строились многие другие попытки проведения реформ в России»1. Это поколение уже сейчас требует более объективной информации и негативно относится к разного рода легитимационным усилиям власти. Чем больше усилий предпринимает власть в этом направлении, тем сильнее противодействие со стороны этого поколения в «блогосфере». Создается модель, которая в рассмотренных нами типологиях близка к технократической легитимности Ж.-Л. Шабо.
Избыточное регулирование со стороны российской политической власти всех сторон жизни общества и ее невнимание к действиям механизма обратной связи, выраженное в игнорировании общественных оппозиционных движений, отстаивающих пока лишь интересы отдельных социальных групп, приводят к усилению авторитарно-коррупционной модели, которую можно отнести к делегитимаци-онной. В российской политологической литературе представлено много описаний этой модели. В обобщенном виде эту модель можно представить как создание определенных условий, в т.ч. и посредством «легитимных» коррупционных схем, для накопления богатства, являющегося главным источником политической власти. В заключение хочется вернуться к выводу Ж.-Л. Шабо о том, что «именно демократическая легитимность имеет тенденцию к распространению в мировом масштабе своих всеобщих процедур»2. Поэтому российскому обществу и его политической власти для включения в этот «мировой масштаб» необходимо развивать и совершенствовать демократическую модель легитимации, тем более что понимание этого присутствует во всех социальных слоях современной России.
1 Известия, 27.10.10.