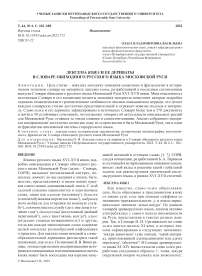Лексема кожа и ее дериваты в словаре обиходного русского языка Московской Руси
Автор: Васильева Ольга Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 4 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - показать методику описания семантики и фразеологии в историческом толковом словаре на материале лексемы кожа , разработанной в последнем составленном выпуске Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков. Многочисленность источников Словаря и его концепция полноты описания материала позволяют авторам подробно отражать семантические и грамматические особенности лексики описываемого периода, что делает каждую словарную статью достаточно представительной и отражает новизну подхода к материалу. Слово кожа и его дериваты зафиксированы в источниках Словаря более чем в 570 документах и почти в 30 устойчивых сочетаниях, что позволяет говорить об актуальности описываемых реалий для Московской Руси, стоящих за этими словами и словосочетаниями. Анализ собранного материала воспроизводит достаточно полно как одну из сторон жизни и быта Московской Руси, так и один из фрагментов лексической системы старорусского языка.
Лексема кожа, историческая лексикология, историческая лексикография, многозначность, фразеология, словарь обиходного русского языка московской руси
Короткий адрес: https://sciup.org/147237951
IDR: 147237951 | УДК: 81-22 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.773
Текст научной статьи Лексема кожа и ее дериваты в словаре обиходного русского языка Московской Руси
Лексика русского языка XVI–XVII веков, подробно описываемая в Словаре обиходного русского языка Московской Руси (далее – Словарь, СОРЯ), вызывает несомненный интерес, поскольку доносит до нас сведения о жизни, быте, мыслях, представлениях и языке наших предков самого конца донациональной эпохи. С этой задачей успешно справляются и однозначные слова, такие как аманат (заложник1), бумазея (хлопчатобумажная ворсистая ткань2), выбранец (кого выбрали для отправки на военную служ-бу3), годовать (нести службу где-л. вне дома в течение года4), двоепускный (полученный двойной перегонкой5), завсе (постоянно, всегда6), изрог (отдельно стоящая возвышенность7) и другие, тогда как каждое многозначное слово содержит целый комплекс разнообразной информации о прошлом. Для анализа семантической и словообразовательной деривации рассмотрим такой полисемант, как кожа . По мнению В. В. Виноградова, «только при полном воспроизведении исторически сменяющихся или изменяющихся систем языка может быть воссоздана вся картина изме-
нений значений и оттенков слова» [1: 7]. СОРЯ, следуя концепции, разработанной Б. А. Лариным и состоящей в исчерпывающем описании лексем, вносит свой вклад в решение такой глобальной задачи, как реконструкция лексической системы русского языка, в рамках XVI–XVII столетий.
ЛЕКСЕМА КОЖА
Как известно, слово кожа общеславянское, было образовано в праславянском языке от имени сущ. коза при помощи суффикса со значением притяжательности -j- и имело первоначальное значение ʻкозья шкураʼ. По данным словарей древнерусского языка, лексема активно употреблялась с самого начала письменности на Руси, представлена в текстах разных жанров. Так, в Словаре И. И. Срезневского на слово кожа даются цитаты XI века, в которых лексема зафиксирована в следующих значениях: ʻшкура животногоʼ (уже снятая), ʻтакой материал, приготовленный для писания книг или для их переплетаʼ, ʻоболочкаʼ8. В Словаре древнерусского языка XI–XIV веков статья на слово кожа разработана следующим образом: 1. ʻкожа, шкура (наружный покров человека или животного)ʼ,
2. ʻспециально обработанная или необработанная шкура животногоʼ, где выделяются оттенками ʻкожаный переплетʼ и ʻоболочка, покрытиеʼ9. Примечателен синкретизм, зафиксированный в обоих приведенных значениях, который отмечается некоторыми исследователями и для более поздних периодов бытования данного слова [5: 16].
К XVII веку, по данным Словаря русского языка XI–XVII веков10 и СОРЯ, имя сущ. кожа сохраняет все свои древнейшие значения, а также развивает ряд новых, образуемых как путем метонимического, так и метафорического переноса.
Безусловно, этимологически первичным является значение ʻшкура животногоʼ, и для языка старшего периода, возможно, вполне правомерно объединение в одном значении ʻкожиʼ и ʻшкурыʼ – ʻнаружного покрова человека и животногоʼ, однако для языка XVI–XVII веков это уже самостоятельные значения. Разводятся они в Словаре русского языка XI–XVII веков (где представлены 1-м и 3-м значениями слова), разводятся и в СОРЯ.
Для лексемы кожа , по данным текстов – источников СОРЯ, выделяются следующие значения: 1) наружный покров тела человека, 2) наружный покров тела животного, шкура, 3) такой покров (с шерстью или без шерсти), снятый с животного, чаще выделанный, 4) кора и луб древесных растений, 5) верхнее покрытие стебля травянистых растений, 6) мешок, бурдюк из шкуры животного, 7) накидка, чем покрывают, укрывают что-л., 8) оболочка для чего-л. Кроме того, данное слово употреблялось как имя собственное (прозвище мужчины).
Первое значение в СОРЯ подтверждается выразительными цитатами:
Частое сырого луку прикладание на тѣло дѣла-етъ пузыри на кожи 11 . Из чужой кожи ремень добро вырѣзать – не болит 12 . Чудеса которые в Горнъгузе-не у здраваго колодезя чинятца… у иных людеи которые горбатые хрепты имѣли и спина у них пряма стала а кожа гдѣ горбъ был обвисла какъ порожная мошна 13 . Где ся у святаго отца кожа возьмет! Был тоненек, а стал брюхат, яко корова-матушка, пестрая или черная 14.
Отмечаем и нетипичную для этого значения грамматику – употребление во множ. числе:
И люди твои [И. И. Киреевского] смеютца ужо де здѣс и иконикъ станет лапти плести и я [иконописец] то вижу над собою что ис сапоговъ в лапти обуваюсь и кожи х костям присушили 15.
Следует заметить, что автор данного текста – иконописец, нанятый И. Киреевским, был чело- веком не только грамотным, но и лингвистически одаренным, все свои беды и лишения описал подробно и выразительно:
Жить невозможно с воды однои мнѣ сыту не быть. празникъ свѣтлое хрстово воскрсние кто пива и браги варит а у меня квасу нѣ было ни заговѣтца ни розговѣ-тца было нѣчем. Толко посмѣщище людское всякъ дивится чем мы живимся кто лапти плететъ тот слаще нас пьет 16.
Так и в приведенном выше фрагменте представлено не только нетипичное употребление слова кожа в этом значении во множ. числе, но и ряд выразительных образов ( из сапогов в лапти обуваюсь и кожи к костям присушили ).
Далее отмечаем, что это значение реализуется в источниках Словаря в целом ряде фразеологизмов: оболочен смертною кожею ʻявляется смертнымʼ, слаться на чью-л. кожу, даваться на пытку против чьей-л. кожи, имать-ся кожу на кожу меж себя, иматься за кожи с кем-л. ʻклясться под страхом пыткиʼ. Первое устойчивое выражение церковно-книжное, все последующие – деловые. Оболочен смертною кожею – так пишет о себе боярин Андрей Шуйский, прося Новгородского архиепископа Макария о помощи – заступничестве перед Иваном Грозным в 1538 году. Не только этот образ, но и все письмо в целом выдержано в церковнокнижной стилистике, тогда как остальные указанные фразеологизмы имеют ярко выраженный деловой характер и встречаются в памятниках исключительно деловой письменности (таких, как «Слово и Дело государевы» и «Памятники деловой письменности XVII века, Владимирский край»). Выражение слаться на чью-л. кожу имело значение ʻклясться под страхом пыткиʼ:
И в розпросе гсдрь и на очнои ставке Андрѣи Сабуров в своих драных писмах слалса на свою Андрѣеву и на Ор-тюшкину кожи 17 . Дѣвка Марица шлетца сверхъ тѣх ссы-лакъ на свою и на ево кожу Максимка Скрыпинъ против еѣ ссылки на свою и на еѣ кожу слался жъ 18.
Примечательно, что дающий такую клятву шлется не только на свою кожу, но и на кожу другого человека, выступающего в качестве второй стороны в разбирательстве. Такая же двусторонняя оппозиция характерна и для других деловых формул, синонимичных приведенной:
даваться на пытку против чьей-л. кожи (Да Осип-ка жъ билъ челомъ, чтобъ государь велѣлъ того его человѣка Пахомка дать на пытку, что онъ его, Василья, тѣмъ не поклепалъ, а противъ его Пахомковы кожи дается самъ на пытку19), иматься кожу на кожу меж себя (И на очной ставкѣ Мишка Гнутой съ товарищи сказали: Гово-рилъ де ты, Демка, про государя то непригожее слово? И Демка сказалъ: Я де такого непригожаго слова про го- сударя не говаривалъ. И въ томъ твоемъ государевѣ делѣ имались межъ себя кожу на кожу20), иматься за кожи с кем-л. (И тѣ луховские посадские люди Кирюшка и Емелка на очную ставку с ним Аршуткою ставлены и онѣ ево на очнои ставкѣ тѣмъ уличали а он Аршутка в том во всемъ запиралса и жена ево Аршуткина ево ж уличала как дѣ он муж мои Янкѣ пособлял а я дѣ всѣ то видела и он Янка сверхъ улик има-лис за кожи с ним Аршуткою чтоб ты великии гсдрь иих пожаловал и велел мѣж ими розыскат пыткою и я холоп твои [Г. Кайсаров] ево Аршутку и Янку велел пытат21).
Так что если в письме Шуйского к архиепископу представлена метафора, отражающая религиозное представление о бренном человеческом теле как оболочке для бессмертной души, то в деловых памятниках устойчивые обороты недвусмысленно говорят о пытке как методе выяснения правдивости утверждений той или другой стороны. Наличие всех приведенных фразеологизмов в языке XVI–XVII веков подтверждает правомерность разведения таких лексико-семантических вариантов, как ʻнаружный покров тела человекаʼ и ʻнаружный покров тела животного, шкураʼ.
Значение ʻшкура животногоʼ подтверждается, например, такими цитатами:
А коли де бываютъ повѣтрѣе на скотъ, на лошади или на коровы, и мертвой де скотъ надобно закапывать въ землю со всѣмъ, а толко де въ землю не закапывать или станутъ кожи одирать, и отъ того де бываетъ повѣтрѣе на люди 22 . Козел платит кожею з бородою а виноватой своею головою 23.
На базе этого значения в языке XVI–XVII веков также начинают формироваться устойчивые выражения, восходящие к библейскому тексту: покрыться чьей-л. кожей, облечь какую-л. кожу, в кожи облечься ʻвыступить в чьем-л. обличьи, притвориться кем-л., каким-л.ʼ, как волк в овчей коже ходить ʻо лицемере, коварном человеке, который скрывает дурные намерения под маской добродетелиʼ.
А онъ убо [Исидор], покрывся овчею кожею, пестроту же яко рысь внутрь имѣя (но она убо пестроту внѣ нося, а сей въ сердци своемъ), показуя себе пастырь овцамъ, а дѣла своя подобна волку 24 . А у шпанского из-стари таков обычаи: какъ он видит, что ему львовои кожи одолѣти немочно, и он облечет лисью кожу 25 . Несть се свещенник, но злый льстець и поругатель себе и волк на божественныя люди, в кожи обличенный 26 . Подобно и здѣ въ Велицѣй России прежде сего бысть, при святѣйшемъ патриарсѣ Никонѣ, начаша нѣции церковь смущати… изъ нихъ же овии умроша, овии же им доселѣ пребываютъ, прикрывшеся лестнокаяниемъ, яко волци посредѣ стада во овчиихъ кожахъ ходятъ 27.
Волк в овечьей коже – образ, представленный в Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 15). Однако это не дословная цитата из Нагорной проповеди, в которой Иисус Христос произнес: «Внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы». Вместе с тем образ овечьих одежд на хищных волках, как и многие другие новозаветные образы, стал настолько популярным, что метафора со временем упростилась, и вместо овчих одежд в устойчивом выражении русского языка закрепилась овечья шкура. Заметим, что в книжных текстах Московской Руси, начиная с произведений Ивана Грозного и Андрея Курбского, в этом и сходных выражениях последовательно употребляется слово кожа. Более того, библейская метафора, как кажется, дает толчок появлению других образных сочетаний, представленных в текстах XVII века, – львовая кожа (о силе), лисья кожа (о коварстве): А у шпанского изстари таков обычаи: какъ он видит, что ему львовои кожи одолѣти немочно, и он облечет лисью кожу28.
Необходимо отметить, что и здесь, на базе второго значения, как и на базе первого, встречается не только книжное, библейское выражение, но и совершенно другое по стилистике, происхождению и употреблению – не словя медведя кожу его продать, которое впоследствии трансформировалось в известный оборот делить шкуру неубитого медведя:
А хотя нне цесар и корол шпанскои крстьян-скои мир розделили меж собою может быт что над ними такъ же учинитца какъ над тѣмъ которые не зловя медвѣдя кожу ево продали 29.
Примечательно, что данное выражение пришло в русский язык из французского, где еще до басни Лафонтена, в которой охотники запродали медвежью кожу раньше, чем поймали медведя, существовала пословица «Не следует продавать шкуру медведя, пока он еще не убит»30.
Третье значение лексемы необычайно богато разного рода сочетаниями; определения при слове кожа указывают на разновидности такого покрова в зависимости от: а) вида животного: бычья, козья, овечья, коневая, коровья, нерпенья, оленья, белужиная, ворванья (снятая с морских млекопитающих) и мн. др.; б) от вида и возраста животного: кожа выросток (шкура годовалого теленка), кожа конжеевая (шкура тюленя-детеныша), лысанья (шкура трехгодовалого тюленя), яловичная (шкура коровы старше полутора лет); в) от способа и стадии обработки: сырая, неделаная, мостовая (кожа крупного скота, выдубленная, но еще не отделанная), деланая, дубленая, задубная, мятильная (кожа, выделанная без дубления, вымачиванием в кислом растворе и последующим разминанием), сыромятная, розваль (выделанная бычья кожа низкого сорта), мякотинная, ирешная, мячильная (кожа мягкой выделки); г) от окрашенности: красная (окрашенная), белая (неокрашенная); д) от назначения (сапожная, подошвенная, уледная, передовая, барабанная). Как отмечают историки, в ХIV–XVI веках «полностью раскрылось своеобразие кожевенного ремесла в русских городах. Совершенствуется технология выделки кожи, расширяется сортамент кож разного качества и назначения»31, который и отражается в текстах того периода многочисленными приведенными словосочетаниями.
Хотя тем или иным способом обработанная кожа является уже материалом для изготовления, в частности одежды и обуви, эта лексема не рассматривалась при описании лексико-семантической группы «Материал для изготовления одежды» в древнерусском языке [3: 134]. Вместе с тем исследователи отмечают тот факт, что в деловых текстах старорусского периода представлены лексемы, обозначавшие кожу, так или иначе обработанную ( яловка, юфть ) [2: 25].
Кожа издавна использовалась для отделки книг и других предметов. Материал СОРЯ дает многочисленные этому подтверждения:
Три Евангилия воскресные толковые в десть, одно из них переплетено кожею в затылок 32. Да трои Часы царския, переплетены в кожи без доск, в полдесть 33. Судебники в коже, в полдесть 34. Крест воздвизалной, цки серебряны, золочены… у креста влагалище деревяное в коже 35. Три ризницы съ замками, поволочены кожами, окованные 36. Венец и цата резные золочены… в киоте, киот в затворы, оболочен кожею красною 37. А тѣ арбы были на колесахъ и щиты деревянные, кожами по-волочены 38. Зимнеи властелинскои возокъ обитъ кожею дачи Михаила Максимовича Нащокина взят во Псков в архиереискои домъ 39.
Как видим, сфера использования отделочной кожи была необычайно широка.
Значения с 4-го по 8-е, оставшиеся в истории русского языка и не столь широко представленные в источниках Словаря, как предыдущие, тем не менее весьма интересны в плане развития полисемии. Они являют собой метафорические и метонимические переносы на разные оболочки, покрытия и емкости. Так, 4-е значение – это ʻкора и луб древесных растенийʼ, а 5-е – ʻверхнее покрытие стебля травянистых растенийʼ. То есть мы видим, что сема оболочки, покрытия здесь остается, меняется лишь денотативная отнесенность. Оба значения подтверждаются примерами только из одного памятника – Назира-теля – переводной книги XVI века, восходящей через польское посредство к латинскому произ- ведению XIV века, являющейся руководством по сельскому хозяйству и садоводству и содержащей медицинские и некоторые другие советы.
Дерево от мѣста студеного и от старости зело затвержается и кожу имѣетъ зело толстую 40 (здесь значение ʻкора дереваʼ). Есть же и на древесех двоя кожа, едина верхняя грубая или толстая, которую лу-бомъ нарицаютъ, другая исподняя которая бываетъ зеленая. а иногда же бѣлая. а тую нарицаютъ мязгою 41 (здесь значение ʻкора и луб дереваʼ) Кожа ж… трав-няя, не есть такъ из жилокъ тонкихъ совокупленная, как звѣрская 42 (здесь значение ʻоболочка стебля травянистых растенийʼ).
Периферийным значением слова кожа , образованным на основе метонимии, является ЛСВ ʻмешок, бурдюк из шкуры животногоʼ:
Купель Силоамля, отъ града саженей съ двѣсти… надъ нею учиненъ сводъ каменный; емлютъ ту воду въ городъ, возятъ въ кожахъ на ишакахъ 43 . Ѣхал… кол-могорецъ Яков Собакинъ с нимъ в двух кожах по смѣте четырнатцать рыб чиров и пеледеи свѣжых 44.
Приведенные цитаты датируются XVII веком, тогда как сочетание кожа вьючная с этим же значением встречается в текстах начала XVI века: Четыре седла въючные, да четверы сумы, да четыре кожи въючные. Да седло лятцкое, да седло вьючное, да сумы, да кожа въючная 45.
Другое периферийное метонимическое значение – ʻнакидка, чем покрывают, укрывают что-л.ʼ: Привели на дворишка мой… двоих лошедей кобылу пѣгу да кобылу гнеду с телѣги да кожу что накрывают возы 46. В этом значении выделяем употребления, поскольку оснований для выделения производных значений недостаточно.
ʻО верхе повозки из такого материалаʼ: Съ Конюшенного двора рыдванъ подъ кожею 47, ʻО шатре из такого материалаʼ: Царь… татарский живет во граде Перекопи… отнюду же и татар сих перекопскими называют. Иже живут в полях под кожами скотскими, ничтоже ведущи о окрестных людских обычаех и учении, или каких художествах 48.
Наконец, последним выделяем самое обобщенное, одно из древнейших метафорических значений – ʻоболочка чего-л.ʼ:
4 стекла въ длину по 5 вершковъ, въ ширину по чети аршина. Да дюжинные въ золотыхъ кожахъ, розбитые и мыши поѣли 49 . Что бы ево пронесло, масла бобкова обертя в киселнои кожи, или в блинъ, и дат в сытѣ или в молокѣ проглотить 50.
В этом значении имеется оттенок ʻупаковкаʼ:
Да зелья семь бочек, а весу в них по ярлыком з деревом, и с кожеми, и с веревками шестьдесят пуд и трит-цать пять гривенов 51.
Кроме того, в источниках СОРЯ встретились употребления слова кожа в качестве имен соб- ственных – как название реки в Каргопольском уезде: Волость что на рѣкѣ на Кожи съ верхнего конца52 и как прозвище мужчины: Житель Орла городка Гришка Кожа53. Нанялись они Иванъ Кожа съ товарищемъ… везти запасъ въ Смоленескъ54. И если севернорусский гидроним, скорее всего, имеет финноугорское происхождение (река Кожа вытекает из Кожозера и впадает в Онегу у деревни Усть-Кожа), то мужское прозвище, безусловно, изначально было мотивировано одним из нарицательных значений этого слова. Остается сожалеть, что в текстах не содержится объяснений происхождения данного прозвища (как и многих других, очень интересных с точки зрения истории языка).
ДЕРИВАТЫ ЛЕКСЕМЫ
В словообразовательное гнездо лексемы кожа входили такие дериваты, как уменьшительные кожица и коженка, уничижительные кожиш-ка и кожишко, синонимичное производящему в значении 3 слово кожурина, а также кожан ʻверхняя одежда из выделанной шкурыʼ (с производным уничижительным кожанишко), кожевня ʻмастерская для обработки и выделки кожʼ, прилагательные кожаный и кожный, номинации кожевник, кожаник, кожник и кожемяка ʻкто выделывает кожиʼ, первое из этих имен дает микротопоним Кожевники в разных городах Руси, параллель женского рода кожевница, глагол кожевничать, а также целый ряд прилагательных: кожевников, кожевниковский, ко-жевницкий и кожевничский, кожевничий, ко-жевничный, кожевный. Помимо перечисленных дериватов, от лексемы кожа образовано слово кожух, имеющее значения ʻверхняя одежда из шкур или меха животныхʼ, ʻкорпус, оклад, футляр, оправа, ящик для чего-л.ʼ, ʻвторая стена, защищающая основную стену городаʼ, ʻсвод над печьюʼ, ʻограждение, наружная обшивка плавильной печиʼ, ʻсвод над мельничным водяным колесомʼ, ʻто, чем закрывают волоковое окноʼ, а также использующееся в качестве некалендарного имени или прозвища мужчины. От существительного кожух, в свою очередь, образованы производные кожушина, кожушок и кожушный, от сущ. кожемяка – прилагательное кожемяц-кий. При этом следует отметить, что многие дериваты (а не только лексема кожух) являются, как и само слово кожа, многозначными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы видим, что лексема кожа в разных своих значениях соотносилась с очень актуальными для Московской Руси понятиями, в результате чего количество дериватов с корнем кож- было довольно большим. Если сопоставить материалы СОРЯ с данными современного языка, то из описанных восьми значений лексемы кожа , бытовавших в языке конца донацио-нального периода, актуальными остались три: ʻнаружный покров тела человека и животныхʼ, ʻвыделанная шкура животногоʼ и ʻвнешняя оболочка плода, семени; кожураʼ55. Что касается дериватов этого слова и фразеологизмов с компонентом кожа , представленных в СОРЯ, то они по большей части не сохранились в современном языке. Это наблюдение еще раз доказывает актуальность тщательной семантизации материалов, заявленной Б. А. Лариным [5] в проекте Словаря и призванной создать наиболее полное и системное описание лексико-фразеологической системы языка старорусского периода.
Список литературы Лексема кожа и ее дериваты в словаре обиходного русского языка Московской Руси
- Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХУ!-ХУ!! веков. Вып. 1. А - Бязь. СПб., 2004. С. 47.
- Там же. С. 305.
- Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХУ!-ХУ!! веков. Вып. 3. Вор - Вящий. СПб., 2010. С. 164.
- Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХУ!-ХУ!! веков. Вып. 4. Гагара - Гуща. СПб., 2011. С. 132.
- Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХУ!-ХУ!! веков. Вып. 5. Да - Дотянуть. СПб., 2012. С. 77.
- Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХУ!-ХУ!! веков. Вып. 6. Доучиваться - Заехать. СПб., 2014. С. 324.
- Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХУ!-ХУ!! веков. Вып. 8. Земелька - Ильинский. СПб., 2018. С. 296.
- Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: В 3 т. Т. 1. СПб., 1893. Т. 1. С. 1245.
- Словарь древнерусского языка Х!-Х!У веков. Т. 1. М., 1988. Т. 11. М., 2019. (Издание продолжается). Т. 4. М. 1991. С. 234.
- Словарь русского языка Х!-ХУ!! веков. Вып. 1. М., 1975. Вып. 31. М.; СПб, 2019. (Издание продолжается). Вып. 7. М., 1980. С. 218.
- Назиратель / Изд. подгот. В. С. Голышенко, Р. В. Бахтурина, И. С. Филиппова; Под ред. С. И. Коткова. М., 1973. С. 512.
- Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX ст. / Собрал П. Симони // Сб. ОРЯС. Т. 66. № 7. СПб., 1899. С. 88.
- Вести-Куранты 1645—1646, 1648 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов; Под ред. С. И. Коткова. М., 1980. С. 142.
- Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1960. С. 273.
- Котков С. И., Панкратова Н. П. Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964. С. 45.
- Там же.
- Памятники деловой письменности XVII в.: Владимирский край / Изд. подгот. С. И. Котков, Л. Ю. Астахина, Л. А. Владимирова, Н. П. Панкратова; Под ред. С. И. Коткова. М., 1984. С. 214.
- Там же.
- Новомбергский Н. Слово и дело государевы: Процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 г. Т. 1 // Записки Московского археологического института. Т. 14. М., 1911. С. 456.
- Там же. С. 198.
- Памятники деловой письменности XVII в.: Владимирский край... С. 182.
- Акты исторические, собранные и изд. Археографической комиссией. Т. 3. СПб., 1841. С. 391.
- Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX ст. / Собрал П. Симони // Сб. ОРЯС. Т. 66. № 7. СПб., 1899. С. 113.
- Акты исторические, собранные и изд. Археографической комиссией. Т. 1. СПб., 1841. С. 495.
- Вести-Куранты 1600—1639 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина; Под ред. С. И. Коткова. М., 1972. С. 97.
- Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье; Под. ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1951. С. 66.
- Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 5. СПб., 1842. С. 340.
- Вести-Куранты 1600—1639 гг. / Изд. подгот. Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина; Под ред. С. И. Коткова. М., 1972. С. 97.
- Там же. С. 133.
- Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 1998. С. 639.
- Курбатов А. В. Кожевенное ремесло в средневековой России: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2012. 52 с.
- Исламова Э. А., Галиуллин К. Р. Казанский край: Словарь памятников XVI в. Казань, 2000. С. 108.
- Города России XVI века: Материалы писцовых описаний / Изд. подгот. Е. Б. Французова. М., 2002. С. 17.
- Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года / Сост. З. В. Дмитриева, М. Н. Ша-ромазов. СПб., 1998. С. 133.
- Галиуллин К. Р., Гизатуллина А. Р. Казанский край: Словарь языка памятников 1-й четверти XVII в. // Изд-во Казанского государственного университета. 2008. С. 92.
- Дворцовые разряды, изданные Вторым отделением собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1850. С. 238.
- Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря / Изд. подгот. Е. Н. Клитина, Т. Н. Манушина, Т. В. Николаева; Отв. ред. Б. А. Рыбаков. М., 1987. С. 206.
- Дополнения к Актам историческим, собр. и изд. Археограф. комис. Т. 4. СПб., 1851. С. 29.
- Сидоренская Н. Д. Нетные книги Псково-Печерского монастыря 1682 г. Псков, 2010. С. 123.
- Назиратель. С. 258.
- Там же. С. 222.
- Там же.
- Проскинитарий Арсения Суханова / Под. ред. Н. И. Ивановского // Православный палестинский сборник. Т. 7. Вып. 3 (21). СПб., 1889. С. 184.
- Словарь промысловой лексики Северной Руси XV—XVII вв. / Ред. Ю. И. Чайкина. Вып. 2. СПб., 2005. С. 67.
- Акты Русского государства 1505—1526 гг. / Сост. С. Б. Веселовский. М., 1975. С. 199.
- Хитрова В. И. Русская историческая и диалектная лексикология: Материалы к практическим занятиям по истории русского литературного языка и русской диалектологии (Буквы З—К). М., 1989. С. 70.
- Дела Тайного приказа. Кн. 1. СПб., 1907. (РИБ. Т. 21). С. 176.
- Лызлов А. Скифская история. М., 1990. С. 126.
- Дела Тайного приказа. С. 287.
- Указ как лечити больных людеи (рукопись ГИМ собр. Щукина № 290). С. 58.
- Города России XVI века: Материалы писцовых описаний / Изд. подгот. Е. Б. Французова. М., 2002. С. 3.
- Дополнения к Актам историческим, собр. и изд. Археограф. комис. Т. 5. СПб., 1853. С. 482.
- Полякова Е. Н. Словарь лексики пермских памятников XVI — начала XVIII века. Т. I. А—О. Пермь, 2010. С. 254.
- Акты, относящиеся до юридического быта древней России / Изд. Археограф. комис.; Под ред. Н. Калачева. Т. 2. СПб., 1864. С. 792.
- Словарь русского языка: В 4 т. Т. 2. К—О. М., 1986. С. 67.
- Виноградов В. В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 5-36.
- Гауч О . Н . Наименование тканей в деловых документах второй половины ХУ!!! века (на примере документов Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области) // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2008. Вып. 28. № 37 (138). С. 21-27.
- Горячкина Е. В. Названия материала для изготовления одежды в русском языке Х!-ХУ!! вв.: этимология, семантика // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2013. № 2 (23). С. 133-139.
- Ларин Б . А . Заметки о «Словаре обиходного языка Московской Руси» // Вопросы теории и истории языка. СПб., 1993. С. 5-9.
- Смольников С . Н . Лексика кожевенного дела в «Словаре промысловой лексики северной Руси ХУ-ХУ!! вв.» // Проблемы русской лексикологии и лексикографии: Тез. докладов межвуз. науч. конф. (Вологда, 13-15 октября 1998 г.) / Отв. ред. Е. П. Андреева. Вологда, 1998. С. 15-17.