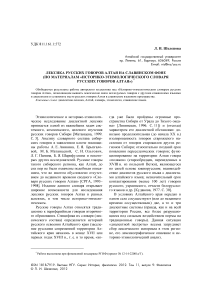Лексика русских говоров Алтая на славянском фоне (по материалам «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая»)
Автор: Шелепова Людмила Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Проблемы современной лексикографии
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Обобщаются результаты работы авторского коллектива над «Историко-этимологическим словарем русских говоров Алтая», позволяющим выявить лексические связи исследуемых говоров с другими славянскими языками и диалектамииустановитьместорусскихговоров Алтая в славянскомязыковом пространстве.
Диалектная лексика, алтай, словарь, этимология, славянские языки
Короткий адрес: https://sciup.org/14737990
IDR: 14737990 | УДК: 811.161.1:572
Текст научной статьи Лексика русских говоров Алтая на славянском фоне (по материалам «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая»)
Этимологическое и историко-этимологическое исследование диалектной лексики признается одной из важнейших задач системного, комплексного, целевого изучения русских говоров Сибири [Матанцева, 1999. С. 3]. Анализу словарного состава сибирских говоров в заявленном ключе посвящены работы А. Е. Аникина, Е. Я. Брызгаловой, М. Б. Матанцевой, С. И. Ольгович, Л. Г. Панина, Б. Я. Шарифуллина и некоторых других исследователей. Русские говоры такого сибирского региона, как Алтай, до сих пор не были охвачены подобным описанием, что во многом обусловлено отсутствием до недавнего времени сводного «Словаря русских говоров Алтая» [СРГА, 1993– 1998]. Издание данного словаря открывает широкие возможности для исследования лексики русских говоров Алтая в разных аспектах, в том числе историко-этимологическом.
Русские говоры Алтая относятся традиционно к периферийным говорам вторичного образования. Специфика их словаря (лексического состава) определяется историей русского освоения Алтайского края (заселение русскими современной территории Алтайского края началось в конце XVII или первых годах XVIII в., т. е. в то время, «ко- гда уже были пройдены огромные пространства Сибири от Урала до Тихого океана» [Липинская, 1996. С. 11]) и (отсюда) характером его диалектной обстановки: довольно продолжительная (до начала ХХ в.) изолированность говоров старожилого населения от говоров старожилов других регионов Сибири; относительно поздний срок появления переселенческих говоров; функционирование на территории Алтая говора «поляков» (старообрядцев, переведенных в XVIII в. из польской Ветки), являющегося по своей основе южнорусским; взаимодействие диалектов русского языка с диалектами алтайского языка; незначительный срок контактирования (менее 100 лет) говоров русского, украинского, отчасти белорусского языков и др. [Кудакова, 1977. С. 30].
В условиях Алтайского края нередко в одном селе сосуществуют (или до недавнего времени сосуществовали) две, а то и три диалектные системы (правда, как и на всей территории России, все более разрушающиеся под сильным воздействием нормы на традиционные говоры). Данная ситуация «диалектной пестроты» весьма затрудняет сбор лексического материала в этом регионе, его лексикографическое описание и историко-этимологический анализ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-14-22001а/Т).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © Л. И. Шелепова, 2012
В настоящее время с учетом предшествующего опыта создания этимологических и историко-этимологических словарей русского языка (в том числе его диалектов) нами разработаны принципы составления «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая» [ИЭСРГА, 2007–2012; Шелепова, 2004], который по своему типу является региональным. В нем объясняются происхождение и история диалектных слов, зафиксированных на Алтае в речи современных его жителей и отраженных в СРГА. При этом мы опираемся на концепцию диалектного этимологического словаря севернорусских говоров А. С. Герда, в соответствии с которой «основная задача регионального этимологического словаря – не столько и не обязательно дальняя этимология слова, сколько определение ареальных взаимосвязей слов данного диалекта с другими диалектами и по возможности определение того, как, когда и из каких диалектов (языков) проникло слово в данный диалект» [1996. С. 10].
На сегодняшний день в соответствии с разработанными принципами авторским коллективом дана историко-этимологическая интерпретация около 6 000 слов (буквы А – Н), которая позволяет сделать некоторые (предварительные) выводы об этимологическом и историческом статусе диалектных слов алтайского региона. В частности, проведенный анализ дает основания утверждать, что подавляющее большинство слов, вошедших в СРГА, – исконного происхождения, причем значительная их часть относится к праславянскому лексическому фонду. На сохранение в исследуемых говорах праславянских архаизмов (лексических и семантических) обратила внимание и Ж. Ж. Варбот, проанализировавшая ряд лексем из СРГА на фоне славянской этимологии [2002]. В данном факте нет ничего необычного, он вполне согласуется с известным положением лингвистической географии «о тенденции к сохранению на периферийных, в том числе вторичных, территориях языковых архаизмов» [Там же. С. 314].
Среди диалектных слов праславянского происхождения, зафиксированных на Алтае, можно выделить (на данном этапе исследования) следующие группы.
I. Слова, встречающиеся в других славянских языках и в русских народных гово- рах (как материнских, так и вторичных – сибирских).
Это самая обширная группа, в нее входят, например, следующие лексемы: абабки ( обабки ) ‘подберезовики’ 1 ; абарка ( обарка ) ‘суп из фасоли’, баба ‘приспособление в ткацком станке для сматывания пряжи’, ‘станина, ось жернова водяной мельницы-мутовки’, бабить ‘принимать роды’, бабка ‘разновидность малой кладки снопов в поле’, ‘наковаленка для отбивания кос’, бабурка ‘насекомое, бабочка’, бездомовый ‘бездомный’, бездонница и бездонье ‘глубокое озеро, пучина, бездна’, бзыкать ‘сердиться, нервничать’, било ‘подвижная часть мялки, которой мнут лен’, благовать ‘баловать’, блазнить ‘чудиться, мерещиться’, близна ‘брак в ткани: отсутствие одной или двух нитей основы на некоторой длине’, блукать ‘гулять, ходить по улице, шататься’, блякотать ‘блеять, издавать звуки, подобные блеянью’, бобуля ‘наземный плод картофеля’, болесть ‘болезнь’, болотина ‘болото’, бости ‘бодать’, бот ‘приспособление в виде длинной палки с полым железным наконечником, которым вспугивают рыбу и загоняют ее в сеть’, ботать ‘качать, болтать (ногами, руками)’, ботеть ‘толстеть’, бриткий ‘острый’, бродник ‘небольшой невод’ и мн. др. Данная группа слов отличается тематическим разнообразием. Кроме того, лексемы, входящие в нее, могут иметь как широкий ареал распространения в славянском и русском диалектном континууме, так и узкий – встречаться лишь в отдельных славянских языках и русских говорах. Например, глагол бабить ‘заниматься ремеслом повивальной бабки, принимать роды’, зафиксированный на Алтае, отмечается также в новг., пск., смол., калуж., орл., кур., нижегор., олон., арх., перм., том., че-ляб. говорах русского языка [СРНГ. Вып. 2. С. 20] и других славянских языках: болг. ( бабя ), макед. ( баби ), сербохор. ( бабити ), словен. ( babiti ), чеш. ( babiti ), слвц. ( babit ’), в.-луж. ( babic ), укр. ( бабити ), блр. ( бабiць ) [ЭССЯ. Вып. 1. С. 110]. Прилагательное же бездомовый ‘бездомный’, записанное в с. Коробейниково Усть-Пристанского р-на Алтайского края, отмечено лишь в словаре
-
1 Приводимые слова являются, если учитывать материал всех русских говоров и славянских языков, как правило, многозначными. Здесь приводятся значения, зафиксированные в русских говорах Алтая.
-
В. И. Даля (без указания места) [Даль. Т. 1. С. 61], а из славянских языков встречается только в чеш. ( bezdomovy ‘безродный’) и польск. ( bezdomowy ‘бездомный’) [ЭССЯ. Вып. 2. С. 18].
-
II. Слова, являющиеся продолжением праславянских форм, употребляемые в других русских говорах, но не засвидетельствованные или слабо засвидетельствованные в других славянских языках.
К таковым может быть отнесено существительное базло , записанное в с. Талица Усть-Канского р-на в значении ‘широко раскрытый рот’. В других русских говорах данное слово фиксируется в значениях: ‘горло, глотка’ (нижегор., влад., яросл., перм., свердл.); ‘крикун, горлодер, плакса’ (обск., перм., твер., яросл., свердл., ново-сиб., хакас.); ‘врун, обманщик’ (олон., новг.); ‘злой человек, злюка’ (самар.); ‘о чем-либо старом, плохом, негодном (иногда – бранно о стариках’) (симб., пенз., казан., урал.); ‘обглоданная кость’ (сарат.) [СРНГ. Вып. 2. С. 50; СРГС, 1999. С. 39]. Как отмечают составители «Этимологического словаря славянских языков», «это экспрессивное слово с невыясненной историей неоднократно относилось исследователями к праславянской лексике и даже дало повод к этимологической дискуссии». Ильинский справедливо указал на то, что русск. базло стоит в одном ряду с многочисленными глаголами и прочими словами с корнем баз- ‘кричать’, ср. русск. базанить , базлить , базланить , базан , базлан , базел и др.; баз- есть расширение и.-е. * bha- ‘говорить’ формантом ĝ , куда автор относит также греч. βάζω ‘говорить, болтать’ < *βαγιω [ЭССЯ. Вып. 1. С. 171].
В эту же группу может быть помещено и слово базыга, отмеченное на Алтае в значении ‘старый хрыч’ и являющееся, по всей видимости, однокорневым с базло. В этом же значении (‘старый хрыч’) базыга употребляется в олон. и вят. говорах. По говорам базыга известно и в других (взаимосвязанных) значениях: ‘глупый и грубый человек’ (новг.); ‘сварливый и придирчивый человек’ (олон.); ‘ревун, плакса’ (вят.); ‘окрик (по отношению к кошкам и собакам’ (ка-луж.) [СРНГ. Вып. 2. С. 51]. Обращает на себя внимание параллелизм значений у существительных базло и базыга. В определенном смысле данные слова (с личным значением) можно рассматривать как меж- диалектные словообразовательные синонимы (варианты).
Прилагательное бесстужий ‘бесстыдный, беззастенчивый, наглый’, зафиксированное на Алтае, широко употребляется в других русских говорах. В некоторых говорах (волог., сев.-двин., арх.) оно встречается также в значении ‘старательный, настойчивый, усердный’ [Там же. С. 278–279]. Данное слово является производным с суффиксом - j- от древнего сложения * bezstudъ (* bez и имени * studъ ), отразившегося в сербохорв. антропониме XIV в. Bestud . Способ суффиксации делает вероятной праславянскую древность рассматриваемого прилагательного [ЭССЯ. Вып. 2. С. 46].
Божатка в русских говорах Алтая -‘крестный отец или мать’. В близких значениях слово встречается в говорах Европейской части России: ‘крестная мать’ и ‘повивальная бабка’. В севернорусских говорах употребительно также существительное бо-жат - ‘крестный отец’, ‘человек, воспитывающий незаконнорожденных детей’, ‘родной дядя’ [СРНГ. Вып. 3. С. 61]. Приведенные диалектные формы восходят к праслав. * bozeta , представленному в древних славянских мужских антропонимах: ст.-сербск. Bozeta и ст.чеш. Bozata , Bozeta , производных от основы имени * bogъ [ЭССЯ. Вып. 2. С. 227].
-
III. Слова, являющиеся продолжением праславянских форм, не отмеченные в других славянских языках и говорах русского языка.
Данная группа имеет особое значение, так как русские говоры Алтая предстают здесь в качестве единственного источника реконструкции праславянского лексического фонда.
Здесь могут быть рассмотрены слово берестень и его варианты березнь, берзень, берсень, бирзень, функционирующие на территории Алтая (в селах Краснощеков-ского, Третьяковского, Усть-Канского и Усть-Пристанского р-нов) в значении ‘дикий крыжовник’. В других русских говорах берестень (берестень, берестень) встречается в значениях, омонимичных данному: ‘посудина, сделанная из бересты’ (пск., смол., влад., калуж.); ‘пастушья сумка из бересты’ (пск.), ‘обвитый берестой горшочек’ (ленингр., волог., вят.), ‘лапти из бересты’ (без указ. места). И только на верхнем Енисее берсень [удар.?] – ‘растение Ribes grossularia L., семейства смородиновых; крыжовник отклоненный’ [СРНГ. Вып. 2. С. 260]. Отмеченное на Алтае название дикого крыжовника является, скорее всего, продолжением праслав. *berstъ, представленного в других славянских языках следующим образом: болг. бряст ‘берест, вяз’, брест то же, диал. брес, макед. брест ‘вяз’, сербохорв. брêст, диал. брüjест ‘вяз Ulmus campestris’, брûст то же, словен. brést то же, чеш. břest ‘вид вяза Ulmus suberosa’, диал. břest ‘бук’, слвц. brest ‘вяз Ulmus cam-pestris’, польск. brzost ‘вид вяза Ulmus montana’, ст.-укр. берестъ ‘вяз Ulmus campest-ris’, укр. бéрест то же, блр. бéраст ‘берест. Праслав. *berstъ тождественно этимологически *bersta (> русск. береста) и *berza (> русск. береза) [ЭССЯ. Вып. 1. С. 198– 200].
В с. Тогул Алтайского края отмечено слово бодыга – ‘чурка, на которой колют дрова’. Считаем несомненной его связь с праславянскими формами *bodъ , *bosti , *bodǫ и их производными в славянских языках, ср.: чеш. bod ‘укол, удар острым’, bodka ‘приспособление на лесопилке’, словен. bodálo ‘кинжал’, bodák колющее оружие, штык’, bodice ‘железные тройные вилы’, bodílo ‘колющее оружие’, сербохорв. бöдūво ‘верхушка, заостренная часть предмета, которой колют’ и др. [ЭССЯ. Вып. 2. С. 151– 157].
В Павловском р-не Алтайского края (и только здесь) записано прилагательное бе-лúнный в сочетании белúнное болóто – ‘место, где белили холсты’. Данное прилагательное – производное от существительного белинá , отмеченного в перм. говорах в значении ‘белёный холст’ [СРНГ. Вып. 2. С. 214] и являющегося продолжением пра-слав. * bĕlina. Праславянская форма образована от прилагательного * bĕlъ и имеет основную функцию обозначения отвлеченного качества (ср. болг. белинá ‘белизна’, сербо-хорв. белúна ‘белизна’, словен. belína ‘белизна’, укр. бiлина ‘белизна’), что послужило, в свою очередь, базой для конкретных семантических реализаций по отдельным славянским языкам, включая русские говоры (ср., например, сербохорв. диал. белúна , бjелúна ‘белое полотно’, ‘белое тело’, ‘белое мясо (например, у курицы)’, ‘беловатый плод’, ‘седина’ и т. д.) [ЭССЯ. Вып. 2. С. 67].
-
IV. Слова, имеющие соответствия в других славянских языках, но отсутствующие или слабо представленные в других русских говорах.
Среди таковых может быть названо существительное бодáч ‘ бодливый бык’: Коровы у нас не бодались , а бодач бык был , так у него рога острые были (с. Елунино Павловского р-на). Слово восходит к пра-слав. * bodačь , ср. сербохорв. бóдâч ‘бодливый вол’, ‘рогатая скотина (самец), отличающаяся бодливостью’, словен. bodáč ‘бодливый вол’ [Там же. С. 151]. В других русских говорах (например, говорах Крапи-винского р-на Кемеровской обл.) известен адъектив бодáчий ‘бодливый’: У нас тут был в краю бык , не пройдёшь , он тебя убьёт , он сильно бодачий , его на верёвке дёр-жут или сдают [ОСК, 2001. С. 225].
В эту же группу можно, видимо, отнести и имя деятеля бивáк – ‘пьяница, лентяй; муж, бьющий жену’: Мужа-бивака всю жизнь терпела (с. Огни Усть-Калманского района). В праславянском языке реконструируются формы * bijakъ (ср. в.-луж. bijak ‘драчун’, польск. bijak ‘забияка’, ‘било цепа’, ‘часть мельничного устройства’ и др.) и * bivьcь – с фонетическим элементом - v- , ликвидирующим зияние (ср. словен. bîvec ‘буян’, диал. bivec то же, ст.-чеш. bivcĕ ‘тот, кто бьет, убивает’, чеш. bivce ‘тот, кто бьет, бьющий’, др.-русск., русск.-цслав. бивьць ‘бьющий’, русск. диал. (калуж.) бивéц ‘игрок, бьющий по мячу’ [ЭССЯ. Вып. 2. С. 96, 103].
Только на Алтае (в с. Санниково Усть-Канского р-на) зафиксировано прилагательное берёзовый , характеризующее масть лошади: Буланый – сжелта , берёзовый синим отдаёт . Можно привести следующие соответствия в славянских языках и их диалектах: чеш. диал. březavá ( kráva ) ‘корова, у которой спина и живот белые, а остальное – красное или черное’, слвц. диал. brezavý ‘бело-пестрый (например, о волах, о корове)’, сербохорв. брèзава ‘пеструха (о корове)’ [ЭССЯ. Вып. 1. С. 203–204].
Светлоглазого человека в некоторых говорах на Алтае называют белоóчий. На юге России засвидетельствовано слово белоóк – ‘местное название рыбы Abramus sopa Pal-ligs, сем. Карповых’ [СРНГ. Вып. 2. С. 223]. В праславянском языке реконструируется форма *bĕlookъ(jь), нашедшая продолжение в таких славянских прилагательных, как сербохорв. белóок, бjелóок ‘с белыми кругами вокруг глаз (о животных и птицах)’, сло-вен. beloók ‘белоглазый’, чеш. bĕlooký ‘белоглазый, светлоглазый’, польск. białooki ‘белоглазый’, укр. бiлоóкий ‘белоглазый’, блр. белавóкi, сюда же фам. Белавóкi [ЭССЯ. Вып. 2. С. 72].
Думается, что сбор и обобщение подобного материала (в рамках создания «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая») будут способствовать выявлению лексических связей исследуемых говоров с другими славянскими языками и диалектами и (на этой основе) установлению места русских говоров Алтая в славянском языковом пространстве.