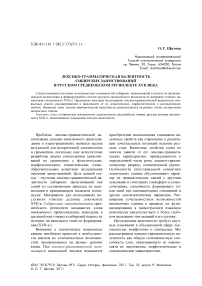Лексико-грамматическая валентность сибирских заимствований в русском среднеобском региолекте XVII века
Автор: Щитова Ольга Григорьевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению сочетаемостных возможностей сибирских заимствований в аспекте их функциональной ассимиляции в формирующейся системе русского среднеобского региолекта на материале томских памятников письменности XVII в. Предложена методика исследования лексико-грамматической валентности иноязычных лексем, рассматриваемой в зависимости от их семантических, морфологических и синтаксических свойств. Выявлены типы лексико-грамматической валентности, реализующиеся на разных этапах ассимиляции иноязычных единиц.
Историческая лексикология, диалектология, среднеобские говоры, русская деловая письменность xvii в., заимствование, иноязычная лексика, валентность
Короткий адрес: https://sciup.org/14737616
IDR: 14737616 | УДК: 811.161.1'282.2'373(571.1)
Текст научной статьи Лексико-грамматическая валентность сибирских заимствований в русском среднеобском региолекте XVII века
Проблема лексико-грамматической ассимиляции лексики иноязычного происхождения в языке-реципиенте является весьма актуальной для исторической лексикологии и грамматики, поскольку еще недостаточно разработан анализ синтагматики заимствований по сравнению с фонетическим, морфологическим, семантическим, словообразовательным аспектами исследования освоения заимствований. Цель данной статьи – изучение лексико-грамматической валентности сибирских заимствований как одной из составляющих процесса их ассимиляции в принимающем языковом континууме. Материалом для исследования послужили томские деловые документы XVII в. Сибирскими заимствованиями среднеобского региолекта называются слова иноязычного происхождения, вошедшие в среднеобские говоры в сибирский период их истории, на начальном этапе их формирования (XVII в.).
Внимание к синтагматике неисконных единиц неизбежно приводит к необходимости анализа их сочетаемостных возможностей, проявляющихся на разных уровнях языка. Под лексико-грамматической ассимиляцией неисконной лексики понимается приобретение иноязычными единицами валентных свойств как стремление к реализации сочетательных потенций исконно русских слов. Валентные свойства слова во многом зависят от его лексико-грамматических характеристик: принадлежности к определенной части речи, лексико-грамматическому разряду, семантической группе. Особенности категориальной семантики лексических единиц обусловливают характер их грамматических связей с другими лексемами в сочетаниях словоформ и словосочетаниях, способность формировать тот или иной тип синтаксических отношений и другие синтагматические параметры. Расширение сочетаемостных возможностей иноязычных единиц в процессе их функционирования в заимствующем языковом континууме свидетельствует о более глубоком вхождении этих новаций в его систему.
Исследование валентности требует научных изысканий в объединенной сфере лексикологии, морфологии и синтаксиса. Мы рассматриваем лексико-грамматическую валентность как общую сочетаемостную способность слов, охватывающую во взаимосвязи их лексические, морфологические и синтаксические характеристики.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © О. Г. Щитова, 2011
Анализ лексико-грамматической валентности слова традиционно сводится к определению следующих ее характеристик: 1) общий тип валентности: активная или пассивная; 2) облигаторность валентности: обязательная или факультативная; 3) синтаксическая функция дополняющего члена (субъектная, объектная, атрибутивная, обстоятельственная, предикативная валентность); 4) форма дополняющего члена, в том числе его частеречная принадлежность; 5) категориальная семантика слова, реализующего валентность; 6) число валентности [Гак, 1998. С. 80].
Дополним данную схему следующими параметрами:
-
• определение синтаксической функции и грамматической семантики иноязычного слова, реализующего валентность, поскольку способность брать на себя те или иные функции в словосочетании и предложении, разнообразие этих функций составляют, на наш взгляд, необходимые параметры синтаксической ассимиляции в рамках лексикограмматической. Внимание к синтаксической функции и семантике заимствования является крайне важным, особенно в том случае, когда иноязычная номинация демонстрирует предикативную валентность в составе предикативного сочетания словоформ (грамматической основы предложения) и может выражать как семантический субъект, так и семантический объект (ср., например, предикативную валентность заимствований лаба ‘монах-священник у буддистов’ и тунгус , в рамках которой может быть реализована семантика заимствования как субъекта, так и объекта действия в составе предикативного сочетания словоформ: лаба прислал – посылан был лаба , тунгусы кочуют – посланы тунгусы и др.). Кроме этого, бывает необходима конкретизация грамматической семантики заимствования по характеру атрибута, объекта, обстоятельства в том случае, если иноязычная номинация является зависимым членом в подчинительном словосочетании, проявляя пассивную валентность (например, при выявлении особенностей обстоятельственной пассивной валентности иноязычных этнонимов сибирского пограничья XVII в. отмечается частота их функционирования в обстоятельственных словосочетаниях в пространственном значении: посылан был в ор-чаки . « Посылан былъ ис Томсково снъ бояр-
скои Петръ Сабанскои да толмак Федка Федоров с служилыми людми в орчаки ко князцом к КоготЂю да к братям иво к Мо-гонаю Кокшекову да к Букою Отчекто-ву… », Томск, 1647 г. (РГАДА. Ф. 214. Ед. хр. 381. Л. 246);
-
• установление типа синтаксической связи иноязычного слова с другими компонентами словосочетания или сочетания словоформ (сочинительная, подчинительная, комплетивная и т. д.), а также средств связи (предложная, беспредложная, порядок слов и т. д.); данный аспект позволяет выявить разнообразие синтаксических и морфологических средств выражения синтаксической семантики, возникающей в процессе функционирования иноязычных единиц в потоке речи. Широко понимаемый нами термин словосочетание включает в себя подчинительные, предикативные и сочинительные сочетания словоформ.
Мы вводим в качестве итогового показателя валентности неисконных лексических единиц понятие индекса валентности. Традиционное понятие число валентности (например, одно-, двух-, трехвалентные глаголы) включает в себя количественную характеристику активной валентности лексемы, входящей в состав подчинительных словосочетаний (например, число актантов – именных дополнений, которые может присоединять глагол). Понятие индекса валентности учитывает не только число валентности, но и 1) сочинительную, субъектную, предикативную валентности, проявляющиеся в сочинительных и предикативных сочетаниях словоформ; 2) пассивную обязательную и факультативную валентности с учетом а) разнообразия синтаксической семантики иноязычных номинаций, б) частеречной принадлежности дополняющих их компонентов, а также в) способов и средств связи.
Мы определяем индекс валентности слов неисконного происхождения, учитывая все возможные параметры: лексико-грамматическую валентность, а именно семантическую валентность иноязычной лексемы и морфолого-синтаксические средства ее выражения в аспекте ассимиляции. «Различие между семантическими валентностями и другими типами зависимостей выражается… в том, что валентностей у большинства слов немного … и их морфологическое выражение часто идиоматично, т. е. зависит не только от содержания валентности, но и от того слова, которому она принадлежит» [Апресян, 1995. С. 119–120].
Итоговая схема анализа лексико-грамматической валентности слов неисконного происхождения: 1) общий тип валентности: активная или пассивная; 2) облигаторность валентности: обязательная или факультативная; 3) синтаксическая функция дополняющего члена (субъектная, объектная, атрибутивная, обстоятельственная, предикативная, комплетивная валентность); 4) форма дополняющего члена, в том числе его частеречная принадлежность; 5) синтаксическая функция (и семантика) иноязычного слова, реализующего пассивную валентность; 6) тип синтаксической связи иноязычного слова с другими компонентами словосочетания или сочетания словоформ, а также средства связи; 7) категориальная семантика слова, реализующего валентность; 8) индекс валентности.
Обратимся к анализу лексико-грамматической валентности иноязычных номинаций незападного происхождения сибирского периода истории среднеобских говоров.
Калмак / колмак – в нашем материале данный этноним тюркского происхождения в сравнении с другими сибирскими заимствованиями проявляет наибольшее разнообразие сочетательных способностей, количественно выражающееся в индексе валентности 10.
«А орды, государь, великие многие к Томскому городу прилегли: черные и белые кол-маки и киргиские люди, и маты, и браты, и саянцы, и тубинцы, и кучегуты, и багасары, и кызылы, и кузнецкие люди, и все те, государь, люди около Томсково города неподалеку кочуют и нас, государь, холопей твоих по землям и по пашням побивают. », Томск, 1616–1617 гг. [Миллер, 1937. Т. 1. С. 449].
-
1. В предикативном сочетании словоформ прилегли колмаки иноязычный апелля-тив обозначают субъект действия и имеет обязательную валентность с предикативной семантикой дополняющего члена, выраженного спрягаемой формой глагола, и взаимо-направленной связью координации компонентов сочетания словоформ.
-
2. В сочетаниях словоформ колмаки и киргиские люди , колмаки и браты и т. п. связь сочинительная.
-
3. Атрибутивная валентность заимствования реализована в словосочетании черные колмаки ‘западные калмыки’, дополняющим членом является прилагательное, тип свя-
- зи – согласование, форма связи – беспредложная.
-
4. Мы считаем возможным рассматривать словоформу колмаки в данном тексте входящей в состав распространенного приложения, зависящего от определяемого слова орды и связанного с ним по типу согласования (в числе и падеже): орды -> (черные и белые) колмаки и ... Таким образом, этноним актуализирует пассивную факультативную атрибутивную валентность.
-
5. «Для привода к шерти белых колмаков. », Томск, 1646 г. [СНРРТ, 2002. С. 91]. В данном контексте иноязычный этноним, являющийся составной частью синлекса белые колмаки , входит в состав именного словосочетания, приобретая пассивную обязательную валентность и значение объекта действия; тип связи – беспредложное управление.
-
6. Атрибутивную семантику слово кал-мак реализует в словосочетаниях с пассивной факультативной валентностью (выступая в роли зависимого компонента словосочетания); при этом оно вступает в связь беспредложного управления: « И кузнецкие де служилые люди повоевали юрту белово колмак а... », Томск, 1653-1654 гг. [Там же].
-
7. Существительное калмак в деловых документах имеет предикативную валентность и актуализирует синтаксическую семантику, аналогичную предыдущей, но отличается от нее типом связи – предложным управлением: тайша в калмаках. «Да в На-рыме же был ясачьной человек Кикпай из Ырмаковы волости, а брат у нево родной в калмаках тайша... », Нарым, 1643 г. [Панин, 1991. С. 58]. На наш взгляд, словосочетание тайша в калмаках можно трансформировать без изменения смысла в сочетание тайша калмаков , что подтверждает возможность интерпретации семантики у исходного словосочетания (и заимствования калмак ) как атрибутивной, главным компонентом которого является имя существительное. Однако предложенное понимание не единственно возможное. В данном случае точнее говорить о сложной, диффузной семантике словосочетания тайша в калмаках , которая, кроме атрибутивности, имеет оттенок обстоятельственного значения, возникающий вследствие предикативной синтаксической функции главного слова – существительного тайша.
-
8. Объектная пассивная валентность формируется в словосочетании купили у калма-ков , в котором тип связи с главным компо-
нентом – глаголом – квалифицируется как предложное слабое управление: « Купили у калмаков Тишка Великосельской да Еремка Степанов две скотины да коня рыжа… », Томск, 1662 г. [СНРРТ, 2002. С. 91].
-
9. Объектная семантика свойственна слову калмак в глагольном словосочетании дал колмакам : « А дал за него колмакам 12 рублев …», Томск, 1627 г. [Там же. С. 133]. Заимствованная лексема проявляет в данном случае объектную пассивную валентность при типе связи с дополняющим членом – беспредложное сильное управление.
-
10. Обстоятельственная пассивная валентность этнонима формируется в глагольных словосочетаниях типа ходил в калмаки (Том. тамож. кн. 1627 г. Л. 34), посылан был в калмаки [СНРРТ, 2002. С. 91]. Синтаксическая функция обстоятельства места, свойственная иноязычным этнонимам сибирского периода, является характерной чертой языкового континуума Среднего Приобья XVII в. Таким образом, индекс валентности у сибирского заимствования калмак ( кол-мак ) равен 10.
Тюркизм киргиз / кыргыз имеет индекс валентности 5.
-
1. В предикативном сочетании словоформ приходят киргизы иноязычный апел-лятив обозначают субъект действия и создает обязательную валентность с предикативной семантикой дополняющего члена, выраженного спрягаемой формой глагола, и взаимонаправленной связью координации компонентов сочетания словоформ. « Что по вся годы приходят к ним киргизы и черные калмаки по трижды и по четырежды годом и с них емлют ясак, и жен их, и детей за ясак емлют в полон… », Томск, 1621 г. [Там же. С. 85].
-
2. В предыдущем контексте вычленяется сочетание словоформ киргизы и черные калмаки на основе сочинительной связи и делается вывод о сочинительной валентности заимствования.
-
3. У заимствованного этнонима киргизы развивается пассивная обязательная обстоятельственная валентность с пространственным характером обстоятельства в составе глагольного словосочетания: отпустили в киргизы, пришли из киргиз и под. « И мы… Номчю и Кочебая отпустили с твоими государевыми людьми в киргизы… » Томск, 1609 г.; « Того же дни пришли из киргиз служилые люди …», Томск, 1649 г. [Там же. С. 95]. Форма дополняющего главного члена словосочетания – глагол, тип подчинительной связи – предложное управление.
-
4. Факультативная пассивная обстоятельственная валентность с пространственной семантикой репрезентируется у анализируемого слова в словосочетании разболелся в киргизах : « Товарищ в киргизах разболелся… поехал назад… », Томск, 1632 г. [Там же]. Частеречная принадлежность дополняющего члена – глагол, тип и средство подчинительной связи – предложное слабое управление.
-
5. Атрибутивная активная факультативная валентность сибирского заимствования киргиз ( кыргыз ) реализуется в атрибутивном словосочетании верхние кыргызы ; дополняющий член выражен прилагательным, тип связи – полное согласование, форма связи – беспредложная: « Да приехали в верхние кыргызы… », Томск, 1661 г. [Там же. С. 111]. Индекс валентности 5.
Фарабат ‘сорт шелка персидского производства’ – имеет пассивную валентность, входит в состав: 1) объектных глагольных словосочетаний: куплено фарабату , Томск, 1658 г. (РГАДА. Ф. 214. Кн. 359. Л. 5) – объектная обязательная валентность; 2) определительных именных: ( куплено ) шелку фара-бату , Томск, 1652 г. (Там же. Кн. 305. Л. 2) – определительная факультативная валентность; 3) количественно-именных: три фунта фарабату , Томск, 1658 г. (Там же. Кн. 359. Л. 6) – комплетивная валентность; 4) сочетаний словоформ с сочинительной связью: « куплено… крашенин… и фараба-ту… и гарусу », Томск, 1658 г. (Там же. Л. 12) – сочинительная валентность. Индекс валентности 4.
Тюркизм чувал (минимальный индекс валентности 1) имеет пассивную обязательную объектную валентность в составе объектного глагольного словосочетания поделать чувалы : « И велел у них в тех банях поделать юрты, на потолках велел прорубить мури и чювалы поделать по-юр-товски… », Томск, 1632 г. [СНРРТ, 2002. С. 307].
Лексико-грамматическая валентность иноязычных слов незападного происхождения, транспонированных в русскую разговорную речь Среднего Приобья в сибирский период, так же, как и слов западного происхождения, обладает в целом разнообразными формальными и семантическими характеристиками. Особенностью незападных по происхождению номинаций среднеобского региолекта XVII в. является наличие в корпусе данной лексики преимущественного большинства (около 60 %) апеллятивов с категориальной семантикой одушевленно- сти, а точнее – личных существительных. Исследование лексико-грамматической валентности тюркских, монгольских, тунгусоманьчжурских, финно-угро-самодийских элементов сибирского периода, находящихся на разных этапах ассимиляции в русских сибирских говорах, позволило выявить особенности валентных способностей иноязычных слов, зависящие от их категориальной семантики и наиболее ярко проявляющиеся на начальном этапе заимствования.
К начальному этапу освоения иноязычных слов мы относим лексемы, имеющие индекс валентности 1–2 (предикативную или / и сочинительную). Апеллятивы, относящиеся к лексико-грамматическому разряду одушевленных (личных) существительных, в первую очередь приобретают в языке-реципиенте предикативную валентность и субъектную семантику , выступая в предложении в функции подлежащего и обозначая субъект действия в составе предикативного сочетания словоформ со связью координации между компонентами: кочуют. маймаканцы , Томск, 1639 г. [СНРРТ, 2002. С. 121]; меняют. саяны , Томск, 1618 г. [Там же. С. 251]; живут тунгусы , шамагири , Томск, 1639 г. [Там же. С. 308]; живут. макагирцы , и долгирцы , и чолкогирцы , и кутугирцы , Томск, 1639 г. [Там же. С. 110, 121-122]; кутукта родился , Томск, 1617 г. [Там же. С. 110]; контайчи . говорил , Томск, 1660 г. [Там же. С. 100] и т. п.
Предикативная валентность и субъектная семантика характерны в первую очередь для этнонимов; личные существительные , обозначающие титулы представителей аборигенов, кроме субъектной семантики, приобретают в глагольных словосочетаниях объектную семантику и пассивную объектную валентность: ланзу выслали , Томск, 1636–1637 гг. [Панин, 1991. С. 154]; сказал про кутукту , Томск, 1617 г. [СНРРТ. С. 110]; катуню бранил , Томск, 1636 г. [Панин, 1991. С. 60] и др.
Иноязычные номинации, имеющие категориальную семантику неличных существительных , главным образом неодушевленных, на раннем этапе ассимиляции развивают в первую очередь объектную семантику при пассивном типе объектной валентности в составе глагольных словосочетаний: алману имать не будем , Томск, 1680 г. [Панин, 1991. С. 7]; прорубить мури , чювалы поделать , Томск, 1632 г. [СНРРТ, 2002. С. 307]; палмами . искололи , Томск, 1646 г. [Там же. С. 176]; продал ураку ,
Томск, 1649 г. (РГАДА. Ф. 214. Стб. 251. Л. 99); кандыкъ копают , Томск, 1636 г. (Там же. Ф. 214. Стб. 53. Л. 684) и т. д.
Семантический объект может быть выражен также в пассивной конструкции при помощи подлежащего в предикативном сочетании словоформ. В таком случае появляется предикативная валентность при наличии координации как типа связи между компонентами: «( долы и ) толомя набиваны золотом », Томск, 1645 г. (Там же. Стб. 74. Л. 344); взята бечева , Томск, 1631 г. (Том. расход. кн. 1630–1631 гг. Л. 199 об. – 200). Это присуще и лексемам западного происхождения: взят лагун , Томск, 1631 г. (Там же. Кн. 1630-1631 гг. Л. 215 об.); присланы фурма ( пыжевик , трещотка ), Томск, 1699 г. [СНРРТ, 2002. С. 299] и др.
Сочинительная валентность номинаций на раннем этапе лексико-грамматической ассимиляции свидетельствует о том, что иностранные слова в сознании говорящих включаются в соответствующие тематические группы лексики: ( Ъдят ) траву. и кандыкъ , Томск, 1636 г. (РГАДА. Ф. 214. Стб. 53. Л. 684); поимав. парусы и. снасти и бечевы , Томск, 163 8 г. [СНРРТ, 2002. C. 310]; кумка и голец, кета и горбунья , Томск, 1646 г. [Там же. С. 109]; ( продал )… жиру ( рыбя ) и … ураку , Томск, 1649 г. (РГАДА. Ф. 214. Стб. 251. Л. 99) и т. п.
В процессе дальнейшей ассимиляции иноязычные номинации приобретают, кроме предикативной, субъектной и объектной, валентности других типов: атрибутивную (активную и пассивную), комплетивную (с количественной конкретизацией характера комплетивных отношений). Таковы лексические единицы, индекс валентности которых более трех. Атрибутивная активная валентность детерминируется тем, что носители региолекта знакомы с разновидностями обозначаемого заимствованием понятия, требующими языкового выражения, и таким образом становится очевидной коммуникативная актуальность понятия и более высокая степень ассимиляции заимствования: ср.: чукреи с ножнами , Томск, 1640 г. [Головачев. C. 147] и ножей чюкриев с че-ренемъ , Томск, 1624 г. (Том. тамож. кн. 1624-1625 гг. Л. 7); подгородной ялани , Томск, 1641 г., и большие елани , Томск, XVII в., и старые подгородные ялани , Томск, 1644 г. [СНРРТ, 2002. С. 65, 312]; « пистолет неметцкои долы набираны и серебром наволочен. с лядункою и с натрускою », Томск, 1635 г. (РГАДА. Ф. 214. Стб. 49. Л. 80); бакша табаку , Нарым,
1688 г. [СНРРТ, 2002. С. 15]; кочи морские [Миллер, 1937. Т. 1. С. 394]); ирбизъ с ногами и нохтми , 1618 г. [Покровский, 1913. С. 299]; каиру бобрового , Томск, 1652 г. (РГАДА. Ф. 214. Кн. 305. Л. 54 об.); тангуц-кой лаба , Томск, 1645 г. [СНРрТ, 2002. С. 111] и т. п.
Синтаксическая функция приложения при пассивной атрибутивной валентности заимствования в составе атрибутивных словосочетаний демонстрирует включенность заимствования в родовидовые отношения, его возведение к родовому понятию: ( лосиных ) кожь тогушеи , Томск, 1652 г. (РГА-ДА. Ф. 214. Кн. 305. Л. 92); каменья мунча-ку , Томск, 1624 г. [СНРРТ, 2002. С. 134]; шолку фарабату , Томск, 1658 г. (РГАДА. Ф. 214. Кн. 359. Л. 10); ножей чюкриев, Томск, 1624 г. (Том. тамож. кн. 1624–1625 гг. Л. 7) и др.
Иноязычные номинации, входящие в состав словосочетаний с количественной семантикой, мы не относим к раннему этапу лексико-грамматической ассимиляции, поскольку количественная валентность дополняет семантические валентности других типов – объектную, определительную и др. Количественная валентность заимствований свидетельствует об активном их употреблении в разговорной речи населения Среднего Приобья, так как обозначаемые ими денотаты имеют хождение в сфере товарноденежных отношений и их измерение требует точности языкового выражения: 24 ан-сыря ( шелку ), Томск, 1640 г. [Головачев. С. 145]; два барсука , Томск, 1658 г. (РГАДА. Ф. 214. Кн. 359. Л. 20); за два лагуна , Томск, 1631 г. (Том. расход. кн. 1630– 1631 гг. Л. 124 об.); восемьдесят пар ( пис-толетовь ), Томск, 1675 г. (РГАДА. Ф. 214. Ед. хр. 590. Л. 579 об.); два коча , Томск, 1646 г. [СНРРТ, 2002. С. 104]; четыре кумача , Томск, 1657 г. (РГАДА. Ф. 214. Кн. 359. Л. 10); две тысячи... одекую , Томск, 1624 г. (Том. тамож. кн. 1624-1625 гг. Л. 78); дват-цать дюжин мунчаку , Томск, 1625 г. [СНРРТ, 2002. С. 134].
Опираясь на количественную и содержательную характеристики валентности, можно сделать вывод о неполной ассимиляции следующих иноязычных лексем западного и незападного происхождения сибирского периода в русских говорах XVII в.: трип, ярмарка , шкатула; мурь(я), нашатырь, урак, урундук, чувал, яшма. Некоторые из этих слов (трип, шкатула; мурь(я), нашатырь, чувал) употреблялись в томских деловых документах значительно раньше их первой фиксации в русских памятниках согласно общепринятой датировке М. Фасмером [1987. Т. 4. С. 103], П. Я. Черных [1993. Т. 2. С. 415; Т. 1. С. 563], в Картотеке Словаря русского языка XI–XVII вв. Наши данные по томским деловым документам XVII в., касающиеся номинации яшма (1627 г.), совпадают со временем ее первой фиксации в русских памятниках письменности, приведенным в Историко-этимологическом словаре П. Я. Черных [1993. Т. 2. С. 476]. Только в томских памятниках в единичных контекстах зафиксированы регионализмы Сибири урак, урундук (подробнее см.: [Щи-това, 2008. С. 182–189]).
Обстоятельственная пассивная валентность, свойственная иноязычным этнонимам сибирского периода, и их пространственная грамматическая семантика как конкретизация характера обстоятельства (синтаксическая функция обстоятельства места) являются характерной чертой среднеобского региолекта XVII в.: купил в чатах , Томск, 1625 г. (Том. тамож. кн. 1624–1625 гг. Л. 37 об.); посылали... в орчаки (‘северные эвенки, занимающиеся оленеводством’), Томск, 1650 г. (РГАДА. Ф. 214. Ед. хр. 381. Л. 247); отпустили в киргизы , пришли из киргиз , приехали в кыргызы : « отпустили с твоими государевыми людьми в киргизы », Томск, 1609 г., « того же дни пришли из киргиз служилые люди », Томск, 1649 г. [СНРРТ, 2002. С. 95], « да приехали в верхние кыргызы », Томск, 1661 г. [Там же. С. 111]; идти в мугалы : « Томскому боярину Степану Александровичу... идти на государеву службу в мугалы к Алтыну-царю », Томск, 1636 г. [Там же. С. 133] и др.
Сравнение результатов лексико-грамматической ассимиляции досибирских заимствований и иноязычных слов сибирского периода по данным томской деловой письменности позволяет сделать вывод о высокой интенсивности процесса ассимиляции в томских говорах XVII в. иностранных слов, входивших в говоры Среднего При-обья в сибирский период, поскольку индекс валентностей сибирских заимствований соотносим с индексом валентностей досибир-ских заимствований (сводные таблицы «Лексико-грамматическая валентность иноязычных слов западного происхождения» и «Лексико-грамматическая валентность слов уральско-алтайского происхождения, вошедших в томские говоры в сибирский период» см. в: [Щитова, 2008. С. 478–479]). Кроме того, иноязычные слова сибирского периода заимствования реализуют валент- ность всех возможных типов: сочинительную, предикативную, субъектную, атрибутивную (активную и пассивную), объектную пассивную, комплетивную. Особенности валентных способностей сибирских заимствований проявляются на разных этапах лексико-грамматической ассимиляции в среднеобском региолекте XVII в. Характерной чертой среднеобского региолекта XVII в. являются обстоятельственная пассивная валентность, свойственная иноязычным этнонимам сибирского периода, и их пространственная грамматическая семантика как конкретизация характера обстоятельства.
LEXICAL AND GRAMMATICAL VALENCY OF SIBERIAN BORROWINGS IN RUSSIAN MIDDLE-OB DIALECT OF THE XVII CENTURY