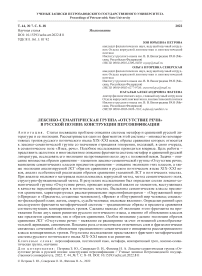Лексико-семантическая группа "отсутствие речи" в русской поэзии: конструкции персонификации
Автор: Петрова З.Ю., Северская О.И., Фатеева Н.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 7 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме описания системы метафор и сравнений русской литературы и ее эволюции. Рассматривается один из фрагментов этой системы - множество компаративных тропов русского поэтического языка XIX-XXI веков, образы сравнения которых относятся к лексико-семантической группе со значением отрицания говорения, входящей, в свою очередь, в семантическое поле «Язык, речь». Подобное исследование проводится впервые. Цель работы -представить целостное и многоаспектное описание фрагмента системы метафор и сравнений русской литературы, исследовать его эволюцию на протяжении около двух с половиной веков. Задачи - описание множества образов сравнения - элементов лексико-семантической группы «Отсутствие речи», выявление семантических классов предметов сравнения - описание эволюции этих классов, а также эволюции анализируемой ЛСГ образов сравнения в русском поэтическом языке XIX-XXI веков, анализ особенностей реализации образов сравнения указанной ЛСГ в поэтических текстах. При анализе языкового материала использовались корпусный метод, метод семантического поля, структурно-функциональный метод. В результате исследования был определен состав лексико-семантической группы «Отсутствие речи», проведен корпусный анализ ее элементов, выступающих в качестве персонификаторов в поэтических текстах. Выделены семантические классы предметов сравнения, характеризуемых рассматриваемыми персонификаторами - «Окружающий мир» («Природа» и «Предметы, созданные человеком»), «Время» и «Внутренний мир человека; социально-философский план; жизнь, смерть, судьба человека; языковые явления». Определен ранний срез исследуемого фрагмента метафорической системы - традиционные образы и предметы сравнения соответствующих компаративных тропов. Сделаны выводы об эволюции этого фрагмента на протяжении более двух веков развития русского поэтического языка, а именно об обновлении классов как предметов сравнения, так и образов сравнения. Особое внимание уделено эволюции образов сравнения ЛСГ «Отсутствие речи» - выявлено ее расширение за счет отношений словообразовательной деривации, синонимии. Показана роль стилистически отмеченных слов и фразеологически связанных сочетаний в обновлении традиционного семантического инварианта рассматриваемого класса компаративных тропов. Результаты исследования представляют фрагмент метафорической системы русского поэтического языка XIX-XXI веков в ее развитии.
Персонификация, поэтический язык, метафора, компаративный троп, лексико-семантическая группа, молчание
Короткий адрес: https://sciup.org/147240100
IDR: 147240100 | УДК: 811.161.1: | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.811
Текст научной статьи Лексико-семантическая группа "отсутствие речи" в русской поэзии: конструкции персонификации
В системе компаративных тропов языка художественной литературы самую большую группу составляют конструкции со значением олицетворения, или персонификации. Образы сравнения этих тропов относятся к семантической категории «Человек», которая включает следующие основные классы: «Обозначения людей», «Движение», «Положение в пространстве», «Активные действия», «Социальный план», «Жизненный цикл», «Физические и психофизические состояния и свойства, процессы в организме», «Восприятие», «Язык, речь», «Интеллект», «Чувства» и др. Множество компаративных тропов, образы сравнения которых относятся к полю «Язык, речь», одно из самых значительных, разветвленных и широких по охвату предметов сравнения. В самом образном поле «Язык, речь» можно выделить две контрастные по значению лексико-семантические группы (ЛСГ). Одна из них включает слова, обозначающие разные типы говорения в конструкциях персонификации; эти слова уже описаны в работах авторов данной статьи [8], [9]. В другую ЛСГ входят слова с общим значением ‘отрицание говорения’: лексема молчать и ее дериваты (глаголы замолчать, помолчать, помалкивать, примолкнуть, приумолкнуть, промолчать, умолчать, намолчаться, отмолчаться, имена существительные молчание (молчанье), умолчание , а также обозначения лиц, мотивированные центральной лексемой: молчун, молчальник, молчальница, прилагательное молчаливый ; кроме того, в эту группу входят близкие по смыслу лексемы с другими основами, образующие концептосферу «молчание»: безмолвствовать, безмолвие, отговорить , устойчивые словосочетания набрать в рот воды, язык проглотить, держать язык за зубами и др. К этой же ЛСГ мы относим и слово немой и его производные немота, немотствовать 1.
Цель статьи – описать семантические классы предметов сравнения, соответствующие указанным персонификаторам, и выявить эволюцию этих классов; проследить эволюцию исследуемой ЛСГ образов сравнения, входящих в кон-цептосферу ‘молчание’, в поэтическом языке XIX–XXI веков, а также проанализировать особенности их реализации в поэтических текстах.
***
Концептосфера ‘молчание’ становилась предметом анализа в ряде работ, среди которых основополагающей можно считать статью Н. Д. Арутюновой «Молчание. Контексты употребления». В этой работе отмечено, что «концепт молчания <…> формируется на фоне понятия говорения, вторичен по отношению к нему»
и является его отрицанием [2: 106]. Реализации этого концепта рассматриваются в разных типах контекстов – коммуникативном, психологическом, религиозно-мистическом и эстетическом. Н. Д. Арутюнова различает тишину и молчание:
«Тишина есть природный феномен, транспонируемый в мир человека; молчание есть человеческий феномен, транспонируемый в мир природы. В основе транспозиции лежит метафора» [2: 114].
Исследователи изучают семантические и семиотические характеристики молчания в культурном и коммуникативном аспектах [1], [7], [12], [15], [17], анализируют функции молчания в рамках теории Р. Якобсона о языковых функциях [18], в продолжение исследований Н. Д. Арутюновой выстраивают типологию контекстов употребления слов семантического класса «Молчание» [4], [5], [14]. Специальное направление составляют исследования, посвященные изучению концепта «молчание» в языке поэзии, в том числе в индивидуально-авторском преломлении [3], [6], [10], [16]. В этих работах молчание преимущественно рассматривается с точки зрения пишущего субъекта («экзистенциальное» молчание, по терминологии Т. Л. Рыбальченко), в то время как молчанию, «транспонируемому в мир природы» (исследователи называют его также «космогоническое» или «онтологическое» молчание), уделяется значительно меньше внимания. Это направление реализации концепта «молчание», непосредственно связанное с персонификацией, как раз и составляет предмет нашего исследования.
Объект исследования – соответствующий фрагмент системы метафор и сравнений русского поэтического языка, до сих пор не имеющий целостного описания. Основываясь на материале Поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ)2, мы предлагаем такое описание. В нем представлены основные семантические классы предметов сравнения, с которыми сочетаются анализируемые персонификаторы. Предметы сравнения и персонификаторы группируются по семантике, времени фиксации в текстах, частоте употребления и словообразовательно-гнездовому принципу.
Предметы сравнения, с которыми сочетаются лексемы ЛСГ «Отсутствие речи», входят в три крупных класса: «Окружающий мир» («Природа» и «Предметы, созданные человеком»), «Время» и «Внутренний мир человека; социально-философский план; жизнь, смерть, судьба человека; языковые явления».
Самый обширный класс предметов сравнения в конструкциях персонификации – это обозначения природных реалий и явлений. Он включает слова с наиболее широким значением - природа, мир, вселенная, которые фиксируются в НКРЯ с самого начала рассматриваемого периода. Среди образов сравнения, которые их характеризуют в начале ХIХ века, центральное место занимают глагол молчать и его производные молчание и молчаливый, а также однокоренные слова другого словообразовательного гнезда - безмолвный, безмолвно, безмолвствовать:
« Природа , алчная к твоим восторгам, страстно Приникла и молчит ! – Волшебница! – воззришь, И я весь твой навек! – Струнами загремишь, И всё тебе подвластно!» (А. Мерзляков 1806), « Безмолвствуй , мир смятенный» (В. Жуковский 1808), «Смерть в увядшей душе, все мертво в безмолвной природе » (В. Кюхельбекер 1817), «Как долго целый мир , колена преклонив И чудно озарен его высокой славой, Пред ним безмолвствовал , смирен и молчалив» (А. Хомяков 1835).
Среди элементов этого класса широко употребительны обозначения разнообразных составляющих частей описываемой природной картины: поле, долина, дол, луг, поляна, нива, пустыня, степь, дорога ; к их образной характеристике, помимо указанных персонификаторов, присоединяются немой, немота, немотствовать :
«Спокойно всё; поля молчат » (А. Пушкин 1824), «Луна встает за дальнею горою, Молчат холмы , долины и леса » (Н. Языков 1829), «Что взор склоняет твой в безмолвные долины ?» (П. Катенин 1810), «Взор мой бродит везде по немой , по унылой пустыне » (В. Кюхельбекер 1817), «Не в людском шуму, пророк, В немотствующей пустыне Обретает свет высок!» (Е. Баратынский 1835–1836).
Отдельные семантические группы в классе обозначений природных реалий составляют «Растения», «Водные объекты», «Земля, горы, камни», «Атмосферные явления», «Небо, воздух», «Светила». Компаративные тропы с обозначениями этих семантических групп в качестве предметов сравнения включают указанные персонификаторы со значением молчания также с самого раннего периода русской поэзии. Группа «Растения» включает в начале XIX века названия совокупностей растений: лес , бор , дубрава , роща , сад , например :
«В безмолвные ль дубровы , Или в дремучий лес, Куда сквозь мрачны кровы Не светит луч небес?!» (А. Волков 1799), «Он с бардом песнь поет – и месяц в облаках, И Кромлы шумный лес безмолвствуя внимает» (К. Батюшков 1802–1803), « Молчит угрюмый бор , одетый ночи мглой» (П. Плетнев 1819), «Проснулись рощи молчаливы » (А. Пушкин 1817–1820), «Блестит луна, недвижно море спит, Молчат сады роскошные Гассана» (А. Пушкин 1825), «Не холнет ветр в тиши ночной; Не дрогнет лист немой дубравы » (П. Ершов 1835), а также отдельные названия деревьев и цветов: сосна , роза :
«Древние сосны зноем томятся, Ноют – молчат» (Г. Каменев 1803), «Пленившись розой, соловей И день и ночь поет над ней; Но роза молча песням внемлет, Невинный сон ее объемлет…» (А. Кольцов 1831).
Обозначения водных объектов: воды , река (и названия рек), волна , струя , пруд , залив , пучина – в начале XIX века чаще всего сочетаются с персонификаторами молчать , молчанье , безмолвный , немой :
« Пускай молчат во льдах уснувши воды » (В. Жуковский 1812), « Молчит Дунай , чернеет лес дремучий» (Н. Языков 1823), «Глухая ночь. Молчит река , Луна сокрылась в облака» (К. Рылеев 1825), «Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток мятежный обратил?» (А. Пушкин 1823), «Прекрасно озеро Чудское <…> Безмолвна синяя пучина » (Н. Языков 1825), « Молчанье волн , утесы, горы И свод полунощных небес Пленяют, восхищают взоры Гармонией своих чудес!» (А. Муравьев 1825–1826), «Когда луны сияет лик двурогой И луч ее во мраке серебрит Немой залив и [склон горы] отлогой <…>» (А. Пушкин 1821).
Предметы сравнения класса «Земля, рельеф, горы, камни» чаще всего сочетаются в ранний период со словом безмолвный , реже с немой :
«Скоро и ты здесь, в недрах безмолвных Матери нашей земли , Скоро здесь будешь, в тесной могиле, С нами лежать» (Г. Каменев 1803), «Вот и камни те безмолвные , Мхом седым вокруг поросшие» (Ф. Иванов 1808), «И совершили долг последний и священный, Предав тебя земле холодной и немой » (А. Полежаев 1837).
Среди обозначений атмосферных явлений в ранний период развития поэтического языка со словами ЛСГ «Отсутствие речи» ( молчать , замолчать , неметь , онеметь ) сочетаются гром и ветер :
«Где гром еще молчал , немея » (А. Радищев 1800–1802), «Увы! – и громы онемели , Ревущие тебя вокруг» (Г. Державин. Водопад, 1791–1794), «Речешь – и громы онемеют » (Н. Карамзин 1792), «Когда Перун, горящих царь громов, Свинцовы тучи собирает И мрачною стезей по небесам ступает, Сердитый ветр молчит и зной поля сжигает, И молнья спит в изгибах облаков» (А. Хомяков 1820), несколько позже – буря и гроза :
«С рассветом буря замолчала » (И. Никитин 1854– 1857), « Гроза молчит , с волной бездонной В сияньи спорят небеса» (Н. Некрасов 1855–1856).
Небо (представленное также номинациями небеса , небосвод, неба свод, неба предел) характеризуется образными словами безмолвный , немой :
«Я озирал сей неба свод , Великолепный и безмолвный » (Н. Языков 1826), «На недвижный и безмолвный Неба божьего предел Взор, уверенности полный, Как на родину смотрел» (Н. Некрасов 1839), «Забыл я порывы к немым небесам , К воздушным и светлым мечтам…» (А. Пальм 1847),
воздух – словом молчанье:
«В душном воздуха молчанье , Как предчувствие грозы, Жарче роз благоуханье, Резче голос стрекозы…» (Ф. Тютчев 1835).
Не часто сочетаются со словами ЛСГ «Отсутствие речи» ( молчаливый , безмолвный ) обозначения светил – месяц , луна и звезда :
«И месяц молчаливый Туманный свет лиет» (А. Пушкин 1814–1816), «Когда безмолвная наводит Луна свой робкий полусвет На лик уснувшия природы» (В . Жуковский 1819), «Что любовь теперь, к несчастью, Не зависит от погоды - Ни от бледного мерцанья Звезд небесных, молчаливых <…>» (М. Михайлов 1847), «Над вами безмолвные звездные круги , Под вами немые, глухие гроба» (Ф. Тютчев 1850).
В семантическом классе предметов сравнения, включающем созданные человеком предметы, в начале XIX века персонификаторами со значением «Отсутствие речи» характеризуются в основном строения и сооружения и их части, значительно преобладают обозначения могила , гробница :
«Почувствуйте в душе унылой, Как над безмолвною могилой Во мраке ночи воет ветр» (Г. Каменев 1803), «Чтоб там безмолвная могила Возвысилася надо мной И только б с ветром говорила Своей высокою травой» (Н. Гнедич 1806), «Ах, скоро трепетной девице Слезами матерь возвестит, Что верный друг ее лежит В сырой земле, в немой гробнице » (Д. Веневитинов 1823–1824)3;
см. также стены, замок, алтари:
«Гремушку в руки - он блажен Один среди безмолвных стен !» (Н. Карамзин 1802), «В старину сей замок знатен был. Но теперь он, опустев, стоит И, разрушившись, безмолвствует » (В. Жуковский 1805–1810), «На гнев, на новые обиды! Сих стен, сих алтарей безмолвных ?» (К. Батюшков 1813).
К этому классу примыкают тропы с предметами сравнения – обозначениями населенных пунктов и их частей: город (и названия городов), столица , село , улица , стогны , площадь :
«Се в грады и безмолвны села Их власть небесна пролетела!» (Е. Костров 1780), «В прозрачной мгле безмолвствует столица » (Н. Языков 1831), «Умолк на Бель-те рев и онемели стогны » (Д. Хвостов 1824–1825), «Когда безмолвная Варшава поднялась, И бунтом опьянела <...>» (А. Пушкин 1831-1834), «Пустые улицы безмолвны были» (Н. Огарев 1842).
Отдельную группу названий «молчащих» предметов в начале XIX века образуют номинации музыкальных инструментов, среди которых преобладает лира . Соответствующие тропы образуют метафоры «второго порядка», иносказательно характеризующие поэтическое творчество (лира молчит ‘поэт не пишет стихи’):
«Виси, безмолвствуя, доколе Мой искренний, любезный друг На Марсовом пребудет поле…» (И. Дмитриев 1791), «Лира поэта при корне Древа безмолвна» (А. Бе-ницкий 1805), «Она живит мой глас и с лиры молчаливой Свевает тихо сладкий сон, – И звук в немых струнах, как ветерок игривый, Весны дыханьем пробужден!» (А. Крылов 1821), «Пока не требует поэта К священ- ной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен; Молчит его святая лира» (А. Пушкин 1827).
Реже встречаются другие обозначения – арфа , струны :
«Но дарователь песнопений Меня давно не посещал; Бывалых нет в душе видений, И голос арфы замолчал » (В. Жуковский 1823), «И веки уж над ним толпою пролетели – Но струны Флакковы еще не онемели !» (В. Жуковский 1814).
В следующем широком семантическом классе предметов сравнения, «Время», родовое обозначение время в сочетании с рассматриваемыми персонификаторами в ранний период встречается редко, ср. «Юноша с свежей душой выступает на поприще жизни <…> Но, безмолвные , ждут скука и время его» (В. Кюхельбекер 1820); обозначения единиц измерения времени – век , год , час и т. д. – в подобных контекстах не зафиксированы, зато высокой частотой употребления характеризуются сочетания слов безмолвный , молчаливый , немой с отдельными обозначениями частей суток – ночь , полночь :
«Угрюмый страх наводит Безмолвной нощи мрак » (А. Беницкий 1805), «И в час безмолвной ночи , Когда ленивый мак Покроет томны очи» (А. Пушкин 1814– 1815), «О, сладостна мечта, дщерь ночи молчаливой , Сойди ко мне с небес в туманных облаках» (К. Батюшков 1802-1803), «Над кущей рыбаря, в час полночи немой , Раздастся ветров свист и вой» (К. Батюшков 1817), «Что значат длинные ряды Высоких камней и курганов, В часы полуночи немой Стоящих мрачно предо мной В сырой обители туманов?» (А. Полежаев 1832).
Помимо сочетания безмолвная ночь , в этот период широко распространены сочетания безмолвие ночей , безмолвие ночное :
«Что может нас вовлечь приятней в восхищенье, Как сладких перемен природы ощущенье, Безмолвие ночей , полудня тяжкий зной И пременяющись погоды с тишиной!» (М. Муравьев 1779), «Медлительно в безмолвии ночей С холма на холм порхает стая вранов» (Н. Языков 1825), «Стада шумят, и соловей Уж пел в безмолвии ночей » (А. Пушкин 1827-1828), «В реке бежит гремучий вал; В горах безмолвие ночное » (А. Пушкин 1820–1821).
Несколько позже фиксируется контекст со словом вечер , в котором персонификатором рассматриваемого семантического класса служит наречие молча : «Прохладный вечер молча расточает Поэзию без звуков, без речей» (П. Вяземский 1865).
Предметы сравнения с абстрактным значением, обозначающие сущности внутреннего, духовного мира человека, социально-философского плана, науки и культуры, экзистенциальные категории, языковые явления, также в ранний период развития русского поэтического языка определяются персонификаторами со значением «Отсутствие речи». Чаще всего этими образными обозначениями (молчать, замолчать, молчание, безмолвствовать, безмолвный, немой, онеметь) характеризуются дух, душа и сердце:
«В унынии любви несчастной, Безмолвствуя , мой ропщет дух » (В. Красовский 1804), «Навек той сердце охладело, Кем было все оживлено; Мое без смерти онемело, Но чувства мук не лишено» (И. Козлов 1828), «И много я видел прелестных цветов, Но сердце упорно молчало » (П. Ершов 1835), «И он прочел в немой душе твоей Всё тайное своим печальным взором» (А. Пушкин 1824), чувства - любовь , страсть , счастье , ненависть , тоска , скука , грусть , зависть:
« Любовь и счастие в романах говорливы, Но в истине своей и в сердце молчаливы » (Н. Карамзин 1802), «Перед улыбкою небесной Земная ненависть молчит » (А. Пушкин 1824), «Тогда молчит тоска в моей груди» (и. Никитин 1850),
интеллект - мысль, мечта, воображение:
«Кто разбудил воспоминанье И замолчавшие мечты ?» (В. Жуковский 1818), «Мое молчит воображенье » (К. Бахтурин 1835-1839), «И мысль моя насильственно молчит (Н. Щербина 1848), «Брожу задумчиво, и с сумраком полей Сольются сумерки немой мечты моей» (П. Вяземский 1848),
судьба и смерть:
«Вдали безмолвная судьба» (С. Бобров 1802-1803), «Беспечному предав его веселью, Судьба молчит над тихой колыбелью (В. Жуковский 1819), «Я видел смерть; она в молчаньи села У мирного порогу моего» (А. Пушкин 1816), реже - разные другие отвлеченные понятия, в том числе вечность, искусство, свобода, закон:
«На лоне вечности безмолвной » (В. Жуковский 1806), «О грозная вечность , Безмолвная вечность!» (И. Никитин 1849-1853), «Завеса вечности немой Упала с шумом предо мной...» (А. Полежаев 1828), «И обессиленно безмолвствует искусство <...>» (В. Жуковский 1819), « Закон безмолвствовал , дух доблести упал» (И. Дмитриев 1818), «Новорожденная свобода , Вдруг онемев , лишилась сил» (А. Пушкин 1821).
Среди элементов семантического класса «Языковые явления» в начале XIX века сочетаются с номинациями со значением молчания слова стих , рифма , характеризующие поэтическое творчество:
«Рифма, звучная подруга Вдохновенного досуга, Вдохновенного труда, [Ты умолкла, онемела]; [Ах], ужель ты улетела, Изменила навсегда!» (А. Пушкин 1828), «Опять молчит печально стих ленивый! Поэта ль дар уже во мне исчез, Или любовь моя охолодела?» (Н. Огарев 1843), а также обозначения других литературных произведений, устного народного творчества: летописи , предание и т. п.: «Пусть не было б Петру ваяний, Пусть летописи умолчат!» (С. Бобров 1801), «Предание смолчало; Стрелец ли, Дева ли, иное ль было что?» (А. Бунина 1811).
Что касается набора персонификаторов со значением «Отсутствие речи», то, как показывает исследованный корпусный материал, кроме перечисленных выше достаточно частых в поэтических текстах начала XIX века элементов рассматриваемой ЛСГ, в этот период фиксируются и слова с меньшей частотой употребления - дериваты слова молчать : замолчать , смолчать , умолчать , промолчать , приумолкнуть , которые добавляют к образному смыслу молчания новые семантические компоненты. См., например:
«Кинжал не выдал, ночь смолчала , Где втайне гроб тройной зарыт» (Д. Ознобишин 1833), «Под сенью сосен заступ светится В руках монаха - лунный луч То серебрится вдоль по заступу, То, чуть блистая, промолчит » (А. Одоевский 1829-1830), « Замолчал поток сердитый» (М. Лермонтов 1839), «Рдяное солнце в облаке мрачном Скоро сокрылось от глаз; . всё приумолкло, всё приуныло, Дремлют леса» (Г. Каменев 1803).
В дальнейшем в истории русского поэтического языка расширяются, пополняясь новыми элементами, семантические классы как предметов сравнения, так и образов сравнения персонифицирующих тропов с рассматриваемой семантикой. Так, если говорить о предметах сравнения, то в классе «Растения» ряд обозначений их совокупностей ( лес , бор , роща , сад - эти предметы сравнения проходят через весь исследуемый период, активно употребляясь в метафорах) пополняется словами аллея , дебри :
« Аллеи спят, безмолвны и темны...» (М. Лохвицкая 1890), «Как будто вглубь ведет / безмолвная аллея , / касаясь тишины / старинной и густой» (В. Казаков 19771978), «В немых аллеях только ветра всхлип» (С. Маковский 1905-1962), «Гулко в дебрях молчаливых , В бесконечных дебрях бора, Прозвучали вопли эти» (И. Бунин 1903).
Кроме того, образы конкретизируются, появляется множество видовых обозначений растений, особенно деревьев: ель , кипарис , ольха , вяз , ива , береза , пальма , см., например:
«Деревья весело шумели, Когда вернулась к ним весна; И только ель одна меж ними Была безмолвна и мрачна» (А. Плещеев 1871), «Стоит в лесу угрюмая, / безмолвная ольха » (Л. Семенов 1903), «Море дикое, играй! Лейся звонко, ключ нагорный! Кипарис , безмолвствуй , черный!» (В. Иванов 1916), «Печальны одичавшие оливы, А пальмы , как паломники, безмолвны » (С. Липкин 1968).
Появляются обозначения частей деревьев: лист , ветка : «Запахи, гудящие над головой Того, кто, только что пройдя, Поломал безмол вную ветку » (Г. Оболдуев 1930), названия других растений: осока , трава , полынь , камыши , кактус :
« Камыши молчали , Как молчали они вначале» (П. Васильев 1929–1932), «Подражая осоке безмолвной и горькой, мы правы – Кто нас может заметить На солнце всемирной души?» (Б. Поплавский 1931), «У нас – только кактусы Стоят, безмолвны и холодны» (Б. Слуцкий 1959–1961), «И танец колдовства, и ветра переплески рисует на лугах безмолвная трава » (И. Жданов 1978–1991).
В классе предметов сравнения «Атмосферные явления» появляется группа обозначений со значением «Снег, лед»: снег , снега , снежинки , лед , глетчер , с конца XIX века становящаяся в поэтических текстах самой частотной в тропах с образами сравнения ЛСГ «Отсутствие речи»:
«Мне мила красота, как мечта непорочно-бесстрастная, Этих чистых снежинок немых » (А. Федоров 1896), «Строго и молча , без слов, без угроз, Падает медленно снег » (В. Брюсов 1913), «И безмолвны горные снега» (И. Коневской 1897), « Поля снеговые безмолвны » (М. Лохвицкая 1896-1898), «И померк далекий глетчер , Вечно гордый и безмолвный » (В. Брюсов 1896), «Дай бог ускользнуть по безмолвному льду , / два слова связать и добавить одно / единственное, замерев на ходу, чтоб боль отпустила» (Б. Кенжеев 1980–1988), появляются также слова туча , туман , дождик :
«Тогда страшит меня молчанье Свинцовых туч , и ветра вой» (И. Суриков 1875), «На небе скучилась громада черных туч . Молчит и копится их сила грозовая» (А. Кондратьев 1911–1920), «К немотствующему туману Вотще я слухом стану льнуть» (Б. Лившиц 1919), « Дождик замолчал , и капельки высохли» (В. Державин 1932).
Элементы класса «Светила» месяц , луна и звезда , входившие в тропы в ранний период, активно употребляются и в следующие периоды:
«Но месяц печальный безмолвно поник. Не знает. Склоняет все ниже свой лик» (К. Бальмонт 1895), «У моря, у тихого моря Одни мы бродили с тобой, Любуясь счастливою ночью, Любуясь безмолвной луной » (Д. Шестаков 1895), «Пустынная в безмолвии луны … В голубоватом трепете аллея…» (Б. Божнев 1939), «Над Лондоном – восточная луна . Раскосая, немая и глухая» (В. Лебедев 1926–1928), «И, как сиделка у кровати, / от недосыпа чуть бледна, / в своем синеющем халате / молчала зябкая луна » (Г. Семенов 1937–1941), « Звезды немые далеки, Ночь завернулась в туман» (В. Брюсов 1893), «И будто от ключа забвенья пили Немые звезды в вышине» (Г. Адамович 1922), «Вечерняя Звезда , безмолвствуя , ждала» (А. Блок 1901), «Но вспомни: струны пели, Роняли небеса безмолвную звезду …» (В. Набоков 1916), «Льется, льется безмолвных звезд молодое млеко» (Б. Кенжеев 1990–2000).
Кроме этих обозначений, в ХХ веке в классе «Светила» появляется солнце :
«Веласкес, Веласкес, единственный гений, Сумевший таинственным сделать простое, Как властно над сонмом твоих сновидений Безмолвствует Солнце , всегда молодое!» (К. Бальмонт 1901), «Прежде за снежной пургою, Там, где красное солнце молчит Мне казалось, что жизнью другою Я смогу незаметно прожить» (Б. Поплавский 1932).
Значительно расширяется класс созданных человеком предметов. Сохраняя в сочетаниях с элементами ЛСГ «Отсутствие речи» обозначения, ассоциирующиеся со смертью (например, « Молчат гробницы, мумии и кости , - Лишь слову жизнь дана» (И. Бунин 1915),« Молчат могилы, саркофаги, склепы »(А. Межиров 1983)), как и обозначения различных строений и их частей:
«Железные затворы Молчат, безмолвен храм, ответа не дает…» (С. Фруг 1885), «Безмолвна родная избушка, Шумит непогода вокруг» (Н. Зарудин 1924), «Помню шкап в кабинете, пожелтевшего Данте, Молчаливые стены , обитые кожей...» (М. Вега 1930), «Молчат дома, как терема. Вчера приехала зима» (С. Петров 1955), он пополняется, в частности, названиями различных механизмов, аппаратов и машин:
«Стоят, безмолвствуя, старинные часы…» (К. Фофанов 1888), «И беспокойный телефон Безмолвствует в ночи» (Д. Кедрин 1928), «И кричит душа моя от боли, И молчит мой черный телефон» (Н. Заболоцкий 1957), «Безмолвные стояли паровозы И, темный пыл в себе тая, Застывшим ужасом железным В пустые пялились поля» (Г. Санников 1922), «Замолчала робкаямаши-на. Тракториста с головы до ног Кто-то облил теплым керосином…» (И. Молчанов 1929), «И на приумолкшие станки, / не забытые за дни разлуки, / тихо положили старики / мудрые и любящие руки» (О. Берггольц 1941), оружия: «Что ж молчали зеландские пушки?» (О. Мандельштам 1921–1929).
Метафорами молчать , безмолвствовать и т. п. характеризуются книги, газеты :
« Молчите , проклятые книги ! Я вас не писал никогда!» (А. Блок 1908), «Сжимает сонная рука Молчащую святую книгу » (А. Герцык 1921), « Безмолвствует черный обхват переплета , Страницы тесней обнялись в корешке, И книга недвижна. Но книге охота Прильнуть к человеческой теплой руке» (М. Светлов 1925), « Молчите , проклятые газеты !» (И. Юрков 1927).
Если в XIX веке с поэтическим творчеством связаны обозначения музыкальных инструментов ( лира , арфа ), то в XX веке – это орудия письма и бумага: перо , карандаш , бумага , страницы :
« Безмолвие страницы разграфленной Как бы неволит что-то написать, Но от моей ли немоты бессонной Ты слова ждешь, раскрытая тетрадь!» (М. Петровых 1956), «Но все-таки, какое это благо – Когда последний сломан карандаш, Когда молчит перо , безмолвствует бумага , И только слышен вещий шепот ваш» (Д. Самойлов 1963), «Не то чтобы мой карандаш онемел , Но он не затем заточился, – Я писем писать никогда не умел, А нынче совсем разучился» (Л. Мартынов 1968).
Молчание здесь носит метатекстовый характер и связано через орудия письма с возможностью / невозможностью творить.
В семантическом классе «Время» родовое слово становится более употребительным, сочетает- ся с более широким кругом персонификаторов, в том числе молчать:
« Молчало время . Ночь не проходила» (К. Бальмонт 1903), «Пусть вр емя обо мне молчит » (И. Бродский 1961), немой : «Несем для вас мы верные Скрижали вдохновенные – Хранить вас в многотрудные Немые времена (К. Фофанов 1911), «Я, окруженный / на острове звуков / морем немых времен , / слушаю говор выросших внуков, / лепет их юных жен» (Н. Асеев 1941-1946), онеметь : « Онемело время … В мире вновь легла Поздняя ночная тишь и полумгла…» (Ю. Балтрушайтис 1911), «Здесь думы о бывалом И время онемело » (В. Хлебников 1920–1921), безмолвствовать : «О время , время , поверни порядок, / связующее раздели звено, / о время !.. Но безмолвствует оно, / в убежище колдунчиков и пряток / нам никому вернуться не дано» (Н. Горбаневская 1974).
Появляются предметы сравнения – обозначения единиц измерения времени: век , час , год :
«Когда и как и кто расскажет, О чем безмолвствуют века ?» (С. Городецкий 1912), «Нам созвездья сияют светила и луны… Каждый час упоеньем своим молчалив » (Д. Бурлюк 1916), «Над немотой Запепеленных лет Заговорив Сожженными глазами <…>» (А. Белый 1931).
В группе обозначений частей суток увеличивается частота употребления слова вечер , расширяется диапазон характеризующих его пер-сонификаторов:
«В этот вечер , горячий, немой и томительный, Не кричит коростель на туманных полях» (Д. Мережковский 1887), «Показалось, будто в рощице Вечер синий приумолк » (А. Макаров 1921).
Эта группа пополняется обозначениями других частей суток – утро , день :
« Осенний день хранил печальное молчанье » (Ф. Сологуб 1895), «Но всходит день , равнодушный, немой и безликий, Ползет отвратительный, скаредный бу-день, Все тот же, тот…» (А. Лозина-Лозинский 1912), « Утро молчит и дождь не дождется» (Г. Гор 1942).
Среди обозначений экзистенциальных категорий, включавших в начале XIX века слова судьба и смерть , в конце XIX – начале ХХ века в сочетании с персонификаторами со значением молчания начинает употребляться жизнь :
«Я жажду подвигов и дела, – А жизнь – их жизнь – вокруг меня И замерла и онемела » (С. Надсон 1883), «О, следуй же за мной в полночные мгновенья Туда, где жизнь молчит , где сказка наяву» (Т. Щепкина-Ку-перник 1913).
Эта тенденция проходит через весь ХХ век – ср. «Так жизнь свое отговорила И замолчала на века» (С. Гандлевский 1977).
Расширяется ряд обозначений отвлеченных понятий, в тропах начинают употребляться слова наука , культура , истина , красота , слава и др.:
«Вера спит. Молчит наука. И царит над нами скука, Мать порока и греха» (М. Лохвицкая 1896–1898), «Почему же молчит культура, И ваши университеты, И храмы ваши, – Когда нас расстреливают?» (П. Орешин 1916), «К вечности, / к немотствующей истине / Близкий нам / Сорок Четвертый Год» (А. Несмелов 1945), «Над нами время промолчит, / пройдет не говоря, / и чья-то слава закричит / немая, не моя» (И. Бродский 1961), «Безмолвствует такая красота, Она не для обычного сознанья» (Ю. Кузнецов 1991).
Элементы семантического класса предметов сравнения «Языковые явления», употреблявшиеся в тропах с начала XIX века - стих , рифма, продолжают встречаться в текстах и в более поздних контекстах: «Уж испуганный стих не молчит в забытьи, И слезами растаяла льдина» (М. Цветаева 1906–1912). Этот класс пополняется в ХХ века элементами слово , строка , строфа , буква , словарь :
« Слова , что молчаливее молчания » (Д. Кнут 1938), «Я бы забыл немоту На бумаге написанных слов » (А. Тарковский 1945), «Неужто / слова о том, что знают, умолчат ?» (Б. Ахмадулина 1999), «У меня есть враги – / это серые / молчаливые строки и строфы , / это слов трафаретные серии, / пира выдумок / жалкие крохи» (С. Кирсанов 1950-1959), «Без союзов словарь онемеет , И я знаю: сойдет с колеи» (С. Липкин 1967), «Ты знаешь, но молчишь , – заговори, словарь . / Я сам себе никто, а ты всему главарь» (Е. Рейн 1990).
В ходе эволюции поэтического языка расширяются не только группы предметов сравнения тропов рассматриваемого семантического класса, но и группы образов сравнения – слов со значением «Отсутствие речи». Появляются суффиксальные образования, мотивированные лексемой молчать . Некоторые из них распространяются на широкий круг предметов сравнения, например молчальник , молчальница – долг :
«Вот Слава шумная, вот Долг – молчальник строгий» (Н. Минский 1887–1895), лес : « молчальник - лес под лиственною схимой» (В. Иванов 1907), вечер : «Как молчальник , синий вечер бродит И все реже шум колес» (А. Лозина-Лозинский 1916), душа : «Ночь златокрылая! <…> Как бы взаимный лад и некий сговор женский Молчальницы - души с Молчальницей вселенской» (В. Иванов 1918-1920), полынь : « Полынь, полынь . < . .> Шуршание твое Прошепчет смутно нам, Молчальница просторов неизжитых» (Е. Забелин 1926), ночь : «О Ночь - молчальница , у нашего порога Святую тайну стереги!» (В. Иванов 1926), тайга : « Тайга молчальница от века И рада быть глухонемой» (В. Шаламов 1937–1956), море : «Я море прошу, но море – молча льник » (Г. Гор 1942), карпы : «Голуби скоро начнут, как вороны, каркать, Будут кусаться и выть молчальники карпы » (И. Эренбург 1957), сосны , елки : «А после подслушать у леса, У сосен , молчальниц на вид, Пока дымовая завеса Тумана повсюд у стоит» (А. Ахматова 1959), «И елки , неподвижны и суровы, Роняя низко рукава ветвей, Ждут, при-горюнясь, – матери и вдовы, Молчальницы в платочках до бровей» (В. Рождественский 1960), стихи: « Стихи мои, птенцы, наследники, Душеприказчики, истцы, Молчальники и собеседники, Смиренники и гордецы!» (А. Тарковский 1960)
(во многих контекстах реализуется религиозное значение этих лексем).
Другие дериваты характеризуют ограниченный круг предметов сравнения, некоторые из них стилистически отмечены, например слово молчанка , которое реализует как фразеологически связанное значение ( играть в молчанку):
«Позабыли Татарск и Ачинск, Городишки одной межи, Как от взятия и до сдачи Проползала сквозь сутки жизнь. Их домишкам - играть в молчанку. Не расскажут уже они, Как скакал генерала Молчанова Мимо них адъютант Леонид» (А. Несмелов 1931), «Да и время играет в молчанку Или шепчет: “Отстань!”» (П. Антокольский 1970), так и свободное значение (в словаре с пометой «Прост.»4):
«Уложено прошлое в пять осторожных мазков – / наскучила нам некрещеного неба молчанка…» (С. Кекова 1983), молчок (с пометой «Обл.»):
«и ветра свист, и скал молчки » (С. Петров 1935–1942), «Прочла свой черновик и ужаснулась. Болтлив и вял нестройных букв молчок » (Б. Ахмадулина 2000) и др.
В текстах конца XX века появляются ранее не отмеченные префиксальные дериваты глагола молчать : помалкивать , отмолчаться :
«Вторая же [ворона] – взвилась под небеса / и каркнула во все воронье горло, / приказывая издали и впредь / фарфоровому шарику (над нами) / помалкивать и взапуски белеть / с забредшими в болото валунами» (И. Бродский 1964), « Помалкивала сталь [трамвайные рельсы], и надо было ждать На утреннем кольце» (Е. Рейн 1990), «И спросил я у кукушки, Сколько лет мне жить осталось. И сначала показалось, Что кукушка отмолчалась . Но потом закуковала В утешенье простаку Добродушная кукушка Бесконечное ку-ку» (Л. Мартынов 1969).
В XX веке в тропах используются и стилистически отмеченные синонимы глагола замолчать – заткнуться (Груб. прост.) и нишкнуть (Обл.):
« Заткнитесь , болтливые пушки ! / Баста!» (В. Маяковский 1919–1920), « Заткнулись звонки , улеглись разговоры» (Е. Рейн 1955–1982), « Заткнись , цензура ! Не касайся сути!» (Д. Самойлов 1986), « Телефон , нишкни , замолкни! Говорить – охоты нет» (А. Галич 1972).
Кроме того, в тропах появляются фразеологически связанные сочетания набрать в рот воды, проглотить язык :
«Тиха, / что воды набрала в рот , / часовня святого Пантелеймона» (В. Маяковский 1921), «Толпится небо за стогами, / и, словно младшая сестра, / плутает речка меж лугами, / и быстроводна и шустра. / Плутует слева, дразнит справа, / шныряет, в рот воды набрав , / и в сомлевающие травы / ныряет, в прятки заиграв» (С. Петров 1959), «Но моря молчат, / набравши в рот воды » (В. Соснора 1960–1962), «Нет не строка , не умершее слово / язык проглотят » (А. Хвостенко 1965-1975), «Море - свалка всех словарей, только твердь язык проглотила » (А. Парщиков 1984).
Обращают на себя внимание и нестандартные конструкции с оксюморонной семантикой, в ко- торых сочетаются взаимоисключающие смыслы ‘речь’ и ‘отсутствие речи’:
«А сердцем – сердце лишь молчит , Его молчание яснее говорит » (В. Жуковский 1800–1805), «Там светлый дом! на мраморных столбах Поставлен свод; чертог горит в лучах; И ликов ряд недвижимых стоит; И, мнится, их молчанье говорит...» (В. Жуковский 1817), «Впиваю это бледное сиянье, Как эльф, качаюсь в сетке из лучей, Я слушаю, как говорит молчанье » (К. Бальмонт 1894), «Ты, разгадавшая немой язык очей Досель таившегося друга!» (С. Нечаев 1824), «Как много звезд – в их полутьме Безумных проблесков – в уме, Как родствен с этой полутьмой Язык любви , язык немой !» (К. Льдов 1902), «Чтобы некогда нашим потомкам рассказали немым языком Мусор вечности, камни живые, об отхлынувшем вале морском» (Амари 1920), «Проникни силою своей В язык безмолвия ночного !» (К. Бальмонт 1899), « Безмолвные речи ручья » (Г. Оболдуев 1930), «Навстречу первых звезд печально замигали Чуть видные огни далекого села. И мнится, те огни со звездами ночными Задумчиво ведут безмолвный разговор » (К. Фофанов 1888), «“Есть божий суд…” – безмолвствуя , кричали / глаза скидавших шапки крепостных» (Е. Евтушенко 1964).
Еще одно проявление отношения речи и молчания – это контексты, в которых выражен смысл «молчание – предвестник слова»:
«Тогда Из глубины молчания родится / Слово , В себе несущее Всю полноту сознанья, воли, чувства, Все тре-петы и все сиянья жизни» (М. Волошин 1917), « Молчанье – это будущее слов , / уже пожравших гласными всю вещность, страшащуюся собственных углов» (И. Бродский 1969).
Еще одна особенность поэтического языка, кроме конструкций, сочетающих взаимоисключающие смыслы ‘речь’ и ‘отсутствие речи’, – это наличие нестандартных синтаксических конструкций, в которых наблюдаются валентности, отсутствующие в общеязыковом употреблении. Это такие конструкции, как молчать (безмолвствовать) о чем :
«Когда и как и кто расскажет, О чем безмолвствуют века?» (С. Городецкий 1912), «Пусть время обо мне молчит » (И. Бродский 1961), молчать кому что : «Береза что ему сказала Своею чистою корой, И пропасть что ему молчала Пред очарованной горой?» (В. Хлебников 1920–1921), молчать кому куда : «И вот я в дверь стучу кулак: / Открой меня туды! / А дверь дубовая молчит / хозяину в живот » (Д. Хармс 1927), молчать чем : « молчит физическое небо / всей миллиардной массой звезд » (Н. Байтов 2000), молчать на каком языке: « По-русски старый парк молчит » (С. Черный 1924).
Что касается синтаксических особенностей персонифицирующих метафор со значением «отсутствие речи», то обращают на себя внимание конструкции, в которых сочетаются два или несколько предметов сравнения, например:
«Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит На хляби и брега безмолвны» (К. Батюшков 1814), «И вопросительно, и кротко – Молчанье неба и земли» (Д. Мережков- ский 1890), «И призрачны, безмолвствуя вдали, Дневная явь и пестрый круг земли…» (Ю. Балтрушайтис 1912).
Подобные конструкции расширяют сферу «онтологического» молчания.
Расширение сферы молчания усиливается в конструкциях с повторами:
« Молчат спокойные могилы , Молчат заснувшие кусты » (А. Разоренов 1889), « Молчат бульвары и сады , Молчат унылые дрозды , Молчит Марго , бела, как мел, Молчит Гюго , он онемел» (И. Эренбург 1942).
В поэзии XX века повторы могут пронизывать весь текст стихотворения, организуя его как целое:
Молчит Творец. Молчит небесный хор. Молчит судьба. Молчит земной простор. Молчит береза под моим окном.
Молчит мой дом, объятый зимним сном. Молчит моя огромная страна.
Молчит над ней бездомная луна, А за луной, суровая, как смерть, Всегда молчит насупленная твердь. И ты, и ты, о, грусть моя, и ты, Молчишь и ты во власти немоты, И ты молчишь в покинутом, ночном Пустынном сердце скованном моем!..
(Н. Белоцветов 1937–1950),
Душа моя безмолвствует внутри, безмолвствует смятение в умах, душа моя безмолвствует впотьмах, безмолвствует за окнами январь, безмолвствует на стенке календарь, безмолвствует во мраке снегопад, неслыханно безмолвствует распад, в затылке нарастает перезвон, безмолвствует окно и телефон, безмолвствует душа моя, и рот немотствует, безмолвствует народ, неслыханно безмолвствует зима, от жизни и от смерти без ума
(И. Бродский 1962).
Усилению смысла олицетворения способствуют сочетания рассматриваемых образных обозначений с другими персонификаторами, например:
« Ночь темна, молчит , смотрит букою?!» (К. Случев-ский 1874), «Так вечно плачущее море В безмолвный берег влюблено » (Н. Минский 1883-1887), « Ночь , пьяна и молчалива , Постучалась под окном » (Б. Корнилов 1927).
Среди сочетаний персонификаторов особо отметим конструкции, в которые входят обо- значения лиц. Такие конструкции фиксируются в поэтическом языке с самого раннего периода. В первой половине XIX века в них входят такие обозначения лиц, как друг, свидетель, например:
«Стени ж опять, стени со мною, О роща , мой безмолвный друг !» (П. Шаликов 1797), «И месяц огненный, безмолвный ночи друг , Встает над ближнею горою» (И. Никитин 1855), «И месяц был один свидетель молчаливый Последних и невинных радостей моих!..» (М. Лермонтов 1829).
В более поздние периоды обозначения лиц в таких конструкциях становятся все более разнообразны, например:
«Вышел месяц - немой паладин На раздолья надземных пустынь» (А. Тиняков 1907), «И как над горящею Францией / глухое лицо Марата, – / среди лихорадящих в трансе / луна - онемевший оратор » (Н. Асеев 1917), «А вечер - немой золотарь - Вонзает рубиновые стрелы В звенящую черную гарь…» (Я. Бердников 1921), « Душа живет безмолвствующей жрицей , Надгробный звон растет, звучит crescendo» (Г. Голохвастов 1958).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, мы рассмотрели множество персонифицирующих тропов с образами сравнения ЛСГ «Отсутствие речи». Был определен состав этой группы, проведено корпусное исследование ее элементов. Выделены семантические классы предметов сравнения, характеризуемых рассматриваемыми персонификаторами – «Окружающий мир» («Природа» и «Предметы, созданные человеком»), «Время» и «Внутренний мир человека; социально-философский план; жизнь, смерть, судьба человека; языковые явления». Прослежена эволюция классов предметов сравнения на протяжении более двух веков развития русского поэтического языка – показано пополнение этих классов новыми элементами. Проанализирована и эволюция образов сравнения ЛСГ «Отсутствие речи» – выявлено ее расширение за счет отношений словообразовательной деривации, синонимии. Показана роль стилистически отмеченных слов и фразеологически связанных сочетаний в обновлении традиционного семантического инварианта рассматриваемого класса компаративных тропов. Результаты нашего исследования представляют фрагмент метафорической системы русского поэтического языка XIX–XXI веков в ее развитии.
Список литературы Лексико-семантическая группа "отсутствие речи" в русской поэзии: конструкции персонификации
- Амзаракова И. П. Молчание как семиотический знак в культуре и коммуникации // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. 2013. № 4. С. 23-27.
- Арутюнова Н. Д. Молчание: контексты употребления // Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994. С. 106-117.
- Бабенко Н. Г. Семантический комплекс «молчание / немота / тишина» в языке русской поэзии второй половины ХХ века // Балтийский филологический курьер. 2003. Вып. 2. С. 69-89.
- Иоанесян Е. Р. Семантика молчания и тишины // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. 2020. Т. 12, № 1. С. 164-186.
- Ковшова М. Л. О культурных смыслах и семантике «слов молчания»: опыт исследования // Под знаком «мета»: Материалы конференции «Языки и метаязыки в пространстве культуры» в Институте языкознания РАН 14-16 марта 2011 г. / Под ред. Ю. С. Степанова и др. М.; Калуга, 2011. С. 342-352.
- Маслова В . А. Философия и поэтика молчания сквозь призму русской поэзии ХХ века // Культура народов Причерноморья. 2004. Т. 2, № 49. С. 130-133.
- Мухаметов Д. Б . Молчание как компонент русской культуры // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 5 (3). С. 77-82.
- Петрова З. Ю., Северская О. И. Говорящий мир в русской поэзии XVIII-XX вв. // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 1. С. 78-90.
- Петрова З. Ю., Северская О. И. Говорящий мир человека в русской поэзии XVIII-XX вв. // Верхневолжский филологический вестник. 2018. № 2. С. 93-102.
- Рыбальченко Т. Л. Семантика молчания в лирике И. Бродского // Сибирский филологический журнал. 2011. № 2. С. 85-100.
- Северская О. И. От молчания к шепоту и говорению: о поэтических langue, langage и parole // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2015. № 1. С. 11-16.
- Шабанова Я. В . Речевой акт «Молчание» в структуре вербальной и невербальной коммуникации // Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 7. Воронеж: ВГУ, 2007. С. 183-192.
- Шведова Н. Ю. (ред.). Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова). Т. 4. М.: ИРЯ РАН, 2007. 952 с.
- Эпштейн М. Слово и молчание в русской культуре // Звезда. 2005. № 10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://magazines.gorky.media/zvezda/2005/10/slovo-i-molchanie-v-russkoj-kuhure.html (дата обращения 01.07.2022).
- Ephratt M. Verbal silence as figure: Its contribution to linguistic theory // Poznan Studies in Contemporary Linguistics. 2016. Vol. 52 (1). P. 43-76.
- Lo Yimon "A Tale of Silent Suffering": Wordsworth's poetics of silence and its function of reintegration // Journal of the English Association. 2020. Vol. 69, Issue 264. P. 25-41.
- Semantics of silences in linguistics and literature (Anglistische Forschungen Bd. 244) / Ed. Gudrun Grabher, Ulrike Jessner. Heidelberg: Universitâtsverlag C. Winter, 1996. 370 p.
- Shcherbak N. F., Potienko V. I. Linguistic and psycholinguistic aspects of silence: A structural model of communication // DISCOURSE. 2021. Vol. 7, No 3. P. 20-35.