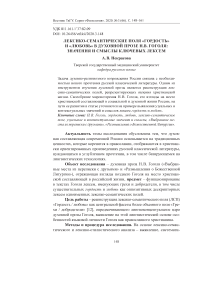Лексико-семантические поля "гордость" и "любовь" в духовной прозе Н.В. Гоголя: значения и смыслы ключевых лексем
Автор: Некрасова Анна Вячеславовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Задача духовно-религиозного возрождения России связана с необходимостью нового прочтения русской классической литературы. Одним из инструментов изучения духовной прозы является реконструкция лексико-семантических полей, репрезентирующих явления христианской жизни. Своеобразие мировоззрения Н.В. Гоголя, его взгляды на место христианской составляющей в социальной и духовной жизни России, на пути ее развития в статье уточняются на примере выявления узуальных и контекстуальных значений и смыслов лексем гордость и любовь.
Н.в. гоголь, гордость, любовь, лексико-семантическое поле, узуальные и контекстуальные значения и смыслы, "выбранные ме ста из переписки с друзьями", "размышления о божественной литургии"
Короткий адрес: https://sciup.org/146281702
IDR: 146281702 | УДК: 811.161.1’37:82.09 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.148
Текст научной статьи Лексико-семантические поля "гордость" и "любовь" в духовной прозе Н.В. Гоголя: значения и смыслы ключевых лексем
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что духовная составляющая современной России основывается на традиционных ценностях, которые коренятся в православии, отображаются в христиански ориентированных произведениях русской классической литературы, нуждающихся в углубленном прочтении, в том числе базирующемся на лингвистических технологиях.
Объект исследования – духовная проза Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с друзьями» и «Размышления о Божественной Литургии»), отражающая взгляды позднего Гоголя на место христианской составляющей в российской жизни, предмет – функционирование в текстах Гоголя лексем, именующих грехи и добродетели, в том числе существительных гордость и любовь как оппозитивных дескрипторных лексем одноименных лексико-семантических полей.
Цель работы – реконструкция лексико-семантического поля (ЛСП) «Гордость / любовь» как центральной фасеты более объемного поля «Грехи / добродетели» [12], опредмечивающего лингвоконцептуальное ядро духовной прозы Гоголя, выявление на этой лингвистической основе особенностей языковой личности Гоголя как православного христианина.
Методы и процедура исследования. На основе лексико-семантического и лексико-стилистического анализа – выявление, системати- зация и интерпретация узуальных и контекстуальных сакрально-религиозных (христианских) и секулярных значений и смыслов лексем гордость / любовь и морфосемантически связанных с ними других лексем с корнями горд- и люб-, которые в совокупности составляют ядро ЛСП «Гордость / любовь», реконструируемого на материале духовной прозы Гоголя. Узуальные значения ключевых лексем выявляются на основе академических словарных данных; прежде всего это Словарь В.И. Даля – наиболее близкий из авторитетных толковых словарей ко времени жизни Гоголя, отличающийся необходимой полнотой, поэтому в реконструкции гоголевской семантики интересующих нас лексем опираемся в первую очередь на него. Контекстуальные смыслы ключевых лексем выявляются на основе контент-анализа тех наиболее репрезентативных фрагментов духовной прозы Гоголя, которые включают рассматриваемые лексические единицы.
Теоретическая база исследования – лингвистическая семантика и стилистика, лингвокультурология, филологическая герменевтика, исследования о феномене «духовной прозы» и «духовного реализма» в русской литературе, относительно которого специалисты отмечают: «Строго говоря, в логике духовного реализма прямо или косвенно может быть интерпретирована вся русская классика XIX века» [4, с. 50]. Лексико-семантическая и герменевтическая интерпретация материала осуществляется с учетом святоотеческой традиции и русской религиозной философии.
Теоретическая основа работы – перечень «сверхценностей» (бытийных ценностей, «метапотребностей»), которые составляют основу личности и поведения людей, характеризующихся противоположными свойствами гордости и любви . В рамках лингвистического исследования целесообразно опираться на перечень, который определяется набором базовых векторов взаимодействий субъекта: 1) с самим собой, 2) с другими людьми; 3) с Богом [2, с. 166]. Этот перечень коррелирует с фундаментальными заповедями христианства: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22: 37–40). Именно эти заповеди и следующие из них векторы взаимодействия субъекта – как глубинные «семантические доминанты», акцентирующие «внутрипроизведенческий» смысл [3, с. 279], – составляют концептуальный фундамент всей духовной прозы Гоголя, в том числе организуют семантические структуры лексем гордость , любовь и смежных с ними.
Состав ЛСП «Гордость / любовь»
В качестве операциональных дескрипторных репрезентантов рассматриваемых ЛСП в данной работе используются корневые морфемы горд - / люб - и соотносительные с ними морфосемантические гнезда однокоренных слов. В текстах «Выбранных мест из переписки с друзьями» обнаружено 36 словоупотреблений лексем с корневым дескрипторным компонентом горд- , 188 – с люб- (кроме не учитываемых нами слов типа любой , любезный , любоваться , любознательный , любопытство и однокоренных им, где налицо опрощение или омонимия), в «Размышлениях о Божественной Литургии» выявлено два словоупотребления с горд- и 57 – с люб- . Статистически и лексико-семантически доминантные лексемы, выступающие как прямые именования соответствующих грехов / добродетелей – любовь / любить и гордость .
Данные о составе и структуре поля (в скобках количество словоупотреблений):
-
1) прямые дескрипторные и придескрипторные именования грехов / добродетелей, составляющие ядро ЛСП: гордость (20), гордыня (1); любовь (103), честолюбие (9), самолюбие (7), человеколюбие (3), себялюбие (1), чинолюбие (1), нелюбовь (1);
-
2) «лицо»: любитель (3), Возлюбленный (1), Человеколюбце (1), любы (1), честолюбец (1);
-
3) атрибутивные признаки лиц: гордый / горд (13), гордящийся (1); любимый / любим (8), человеколюбивый (6), любящий (4), любовный (3), браннолюбивый (1), науколюбивый (1), миролюбивый (1), нелюбяй (1);
-
4) процессуальные признаки лиц: гордиться (1), возгордиться (1); любить (39), полюбить (19), возлюбить (8);
-
5) признаки действий, состояний: гордо (1); полюбивши (4), любовней (2), полюбовно (1), миролюбиво (1), чадолюбно (1).
Найденные 283 словоупотребления представлены в 113 текстовых фрагментах духовной прозы Гоголя, в среднем 2,5 словоупотребления на один фрагмент, что позволяет говорить о наличии особо репрезентативных фрагментов, специально нацеленных на экспликацию нравственной проблематики, связанной с понятиями «любовь / гордость». Те достаточно обширные фрагменты, которые являются наиболее репрезентативными (максимально насыщенными лексемами с однотипной морфосе-мантикой), не поддаются целесообразному делению на более простые, структурно соотносящиеся, например, со словосочетанием или простым предложением.
Наиболее репрезентативные фрагменты содержат рассуждения о гордости / любви, их проявлениях и их свойствах, – как о явлениях, состоящих в непосредственной связи друг с другом; в обширных фрагментах наблюдаются различные феномены лексико-семантической внутритекстовой связи, а именно: синтагматически рядополагаются разнокоренные лексемы с общей архисемой (гордость, честолюбие, самолюбие), формы одного слова (гордости, гордость), наблюдаются буквальные лексические повторы (горд, горд), текстуальное «нанизывание» однокоренных слов с разными словообразовательными элементами (полюбить, любви, любимо), текстуальное сопряжение омонимичных словоформ («носил эту любовь» и «откуда взялась эта любовь?»), окказиональная омонимиза-ция слов с разным написанием (Любви, любви).
ЛСП «Гордость» (лексемы с дескрипторным морфом горд-)
Современные представления о гордости в суммарной энциклопедической характеристике – амбивалентны; гордость понимается как «… чрезвычайно высокая оценка человеком собственных достоинств. В зависимости от этической и культурной традиции и в зависимости от соответствия высокой самооценки реальным свойствам индивида <…> может трактоваться и как добродетель, и как порок» [17, с. 90]. Это сравнительно новое представление: этимологические данные, далее христианская (сакрально-религиозная) традиция понимания гордости, материалы (преимущественно секулярного) Словаря В. И. Даля, фиксирующего особенности русского языкового сознания первой половины – середины XIX века, оценивают гордость (и гордыню как словообразовательный вариант гордости ) однозначно – как качество негативное.
Данные этимологических словарей позволяют считать, что семантический этимон современных русских слов с горнем горд - (прежде всего непроизводного прил. гордый ) – аксиологически негативное личностное качество; отмечается, в частности, что «старшее значение» общеславянского *gъrdъ было «придирчивый > высокомерный» [21, с. 204], ст.-слав. гръдъ – «заносчивый», «величественный, страшный» [22, с. 206].
В Словаре В. И. Даля лексемы гордость, гордыня размещены в теле словарной статьи «Гордый»; будучи синтаксическими дериватами, толкуются отсылочно, с лаконичной синонимизацией, ср.: «Гордость, гордыня, горделивость <…> качество, свойство гордого; надменность, высокомерие». Заголовочное прил. гордый синонимизируется с гордын-ный (< гордыня) и гордостный (< гордость); вокабула гордый толкуется посредством неупорядоченного ряда синонимов, которые представляется возможным разделить – в соответствии с названными выше «векторами взаимодействий субъекта» – на две группы: 1) группа «Я сам» (внутреннее состояние человека гордого, результирующее в характерные внешние проявления): «надменный, высокомерный, кичливый; надутый, высоносый, спесивый, зазнающийся»; 2) группа «Я и другие» (отноше- ние человека гордого к другим людям, результирующее в специфические особенности взаимодействия с окружающими): «кто ставит самого себя выше прочих». Эти две группы хорошо соотносятся с деревом значений производного глагола гордиться: (1) «Я сам»: «быть гордым, кичиться, зазнаваться, чваниться, спесивиться <…> быть самодовольным»; (2) «Я и другие»: «хвалиться чем-л., тщеславиться; || ставить себе что-л. в заслугу, в преимущество» [6, т. 1, с. 378].
Отмечаем: в Словаре Даля, во-первых, группа (3) «Я и Бог» в толкованиях прил. гордый и его производных не представлена, – вероятно, в силу секулярной ориентированности словаря; во-вторых, все толкования ( надменность, высокомерие, кичливый и т. д.) носят этически осуждающий характер (аксиологически негативные оценки гордости , гордость трактуется как «антиценность»).
В современных словарях, в отличие от Словаря Даля, различают гордость и гордыню . Гордыня трактуется предельно кратко, отсылочно – как «непомерная гордость» [13, с. 218], оказывается в ряду этически осуждаемых качеств (аксиологический «минус»).
Толкования гордости в современных словарях фиксируют аксиологическую двойственность представлений о гордости.
-
1. Группа толкований «Я сам» фиксирует, с одной стороны, этическое одобрение высокой позитивной самооценки субъектом самого себя ( гордость трактуется как чувство собственного достоинства, самоуважения [Там же, с. 218], высокие моральные, профессиональные требования, которые человек предъявляет к себе и которым стремится соответствовать [8, с. 229]); с другой стороны, этическое неодобрение высокой позитивной самооценки субъектом самого себя – при условии, что такая оценка не соответствует действительности ( гордость трактуется как преувеличенно высокое мнение о себе [9, с. 327].
-
2. Группа толкований «Я и другие» также аксиологически двойственна: с одной стороны, гордость трактуется как чувство радости, глубокого удовлетворения от достигнутых кем-л. успехов, от сознания важности, значительности чьей-л. деятельности [Там же], от осознания талантов, положительных качеств, присущих кому-л. [8, с. 229] (аксиологический «плюс»); с другой стороны, гордость трактуется как пренебрежительное отношение к другим; высокомерие, надменность [9, с. 327] (аксиологический «минус»).
Выводы: во-первых, в современных толкованиях, как и в Словаре Даля, не представлена группа (3) «Я и Бог»; во-вторых, в группах (1, 2) «Я сам» и «Я и другие», в отличие от Словаря Даля, фиксируется аксиологическая амбивалентность как позитивной самооценки субъекта гордости, так и позитивной оценки проявлений гордости субъекта во взаимодействиях с другими людьми.
Святоотеческое понимание гордости как главного из восьми основных грехов, корня всем остальным, в отличие от секулярных прочтений, основывается на векторе (3) «Я и Бог». Гордость – полный синоним гордыни [18, с. 113]. Чувство собственного превосходства над другими людьми несовместимо с христианством, поскольку «противоречит Творцу, создавшему всех людей равными» [15, с. 662]. В Библии гордость «не выступает как положительное качество» [11, с. 111], – напротив, ср.: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь» (Притч 29: 23); «Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин 2: 16).
В наставлениях прп. аввы Дорофея о двух видах гордости прослеживается взаимосвязь и иерархия векторов взаимодействия субъекта: «Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, когда осуждает и бесчестит его как ничего не значащего, а себя считает выше его: таковый, если не опомнится вскоре и не постарается исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость, так что возгордится и против Самого Бога, и подвиги и добродетели свои приписывает себе, а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и тщание, а не помощию Божиею» [1, с. 65–66].
Гордость является страстью, «которая порождает все другие, а немногие оставшиеся замещает по мере победы над ними». Сама являясь «грехом по преимуществу, гордость может быть названа им в собственном смысле слова» [14, с. 23]. «Где совершилось грехопадение, - пишет прп. Иоанн Лествичник, – там прежде водворялась гордость. Один почтенный муж сказал мне: “Положим, что есть двенадцать бесчестных страстей; если произвольноь возлюбишь одну из них, то есть годость, то и одна сия наполнит место прочих одиннадцати”» [10, с. 280].
Назовем ключевые коммуникативные смыслы (КС) лексем с корневой морфемой горд- , процитируем актуализующие эти смыслы фрагменты, с необходимыми комментариями относительно контекстуальной семантики (далее курсив в цитатах мой. – А. Н .):
КС-1: ‘гордость как необоснованно высокая самооценка’, ср.: «Ты горд – говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд ; сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России, и что с этих только пор следует серьезно поумнеть тебе…» [5, с. 135];
КС-2: ‘гордость как обоснованно высокая оценка своих достоинств’, ср.: «Не мешает заметить, что это был тот поэт <Пушкин>, который был слишком горд и независимостию своих мнений, и своим личным достоинством» [Там же, с. 45];
КС-3: ‘гордость как глубокое удовлетворение достоинствами других’, ср.: «Вот отчего так гордо затрепетало его <Пушкина> сердце, когда услышал он о приезде Государя в Москву во время ужасов холеры…» [Там же, с. 50];
КС-4: ‘гордость – противоположность смирения и любви как главных свойств христианского Бога, вочеловечившегося ради людей’, ср.: «Вопли услышались: явился в мир, Им же мир бысть ; среди нас явился в образе человека, как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком представляли Его неочищенные понятия – не в гордом блеске и величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось кроткое лобзание брата» [Там же, с. 350].
КС-1 – гордость как греховная страсть самолюбования и самовоз-величивания, непосредственно соотносящийся с сакрально-религиозным мировоззрением, представленный наиболее широко (32 словоупотребления: 5 – гордый ; 5 – горд ; 19 – гордость ; 1 – возгордиться ; 1 – гордящийся ; 1 – гордыня ), отражает устойчиво сложившееся в святоотеческой традиции представление о гордости / гордыни двух родов: «духовной» («монашеской») и «плотской» («мирской»). В гоголевском тексте такая схема находит воплощение и уточняется: есть гордость «духовная» (чистотой своей и умом) и гордость «ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием» [Там же, с. 198–199].
Признаки 2-4 соотносятся исключительно с секулярным представлением о гордости и наличествуют всего в шести контекстах. Признак 2 (два словоупотребления: 1 – гордый ; 1 – горд ) связан с идеей служения России, с особой миссией правителя, с любовью к отечеству. Признак 3 (два словоупотребления: 1 – гордиться ; 1 – гордо ) обобщает мысли об избранности писателя (контексты: пушкинская и байроновская гордость). Лексема гордый в случае 4 (два словоупотребления: 1 – гордый ; 1 – гордость ) не несет в своем значении нагрузки, связанной с надмением, превосходством, а характеризует страх, трепет от вызываемых кем-л. или чем-л. величия, величественности.
ЛСП «Любовь» (лексемы с дескрипторным морфом люб-)
Любить > любовь – слова с общеславянским истоком *lubiti(se) [23, с. 174–175], с очень обобщенным семантическим этимоном, сводящимся к формулам «переживать влечение, сильное тяготение, непреодолимую привязанность в кому-л.», «иметь склонность, пристрастие к чему-л.» [21, с. 497], который в различных контекстах обрастает разнообразными конкретизирующими значениями и смыслами, – настолько различными, что они ставят лексемы любить > любовь на грань между расходящейся полисемией и омонимией. В древнегреческом задача номинации разных аспектов любви решалась за счет разных лексем, ср.: ἔρως – наиболее общее значение «страстное желание, горячее стремление» [7, т. 1, с. 670], φιλία – «привязанность, дружба» [Там же, т. 2, с. 1727], ἀγάπη – «любовь» > «братские трапезы (у христиан ранних веков)» [Там же, т. 1, с. 17]. От любви как недифференцированного «страстного желания, горячего стремления» (ἔρως) четко отграничены представления о привязанности к кому-чему-л. (φιλία) и духовной, братской близости, как у христиан (ἀγάπη).
Русские лексемы любить / любовь очень многозначны, в зависимости от специфики номинируемых субъект-субъектных или субъ-ект-объектных отношений выражают разнообразные смыслы, разграничить которые затруднительно. Особые сложности представляет задача выделения сакрально-религиозной компоненты любви, что в контексте данной работы является ключевой задачей. Так, толкования любви в Словаре В. И. Даля соотносятся лишь с группой (2) «Я и другие», ср.: «… состояние любящего, страсть, сердечная привязанность, склонность; вожделенье; охота, расположение к чему» [6, т. 2, с. 282]; то же видим и в современных словарях, с уточнениями, например, по основаниям любви (общность интересов или идеалов, инстинкт, половое влечение), по специфике внутреннего состояния субъекта (склонность, расположение, влечение) и др. [8, с. 557; 13, с. 506; 20, с. 104].
Сакрально-религиозные смыслы любви как тесной духовной связи (группа 3 «Я и Бог») являются доминантными в христианском дискурсе, ср.: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15: 12–13). По христианскому учению , любовь – «…высшая христианская добродетель, одно из имен Божиих …» [16, с. 58].
Применительно к духовной прозе Гоголя существенно отметить, что, по святителю Тихону Задонскому, подлинно христианская любовь к ближнему должна быть согласна с любовью к Богу: «В противном случае, любовь к человеку должна уступить любви Божией. Бога бо должно любить паче всякого создания, паче всякого человека и паче себя самого» [14, с. 106].
Существо труда, способного привести к стяжанию подлинной христианской любви, – в слове апостола: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор 13: 4–8).
Контекстуальная семантика сущ. любовь и однокоренных с ним в духовной прозе Гоголя резко отличается, «не вписывается» в секулярные дефиниции толковых словарей. Своеобразие – в сакрально-религиозных или сакрализованных смыслах. Основываясь на христианском прочтении любви , которая соотносится с выделенной нами третьей группой «Я и Бог», Гоголь развивает ее до отношения «Мы и Бог», где условное коллективное «мы» предстает как любой гражданин России, дόлжный, по Гоголю, руководствоваться во всех своих делах любовью – к ближним, Богу, своему делу, которое в конечном счете ради ближних и ради России. Показываем конкретные фрагменты – с необходимыми комментариями относительно контекстуальной семантики (КС) лексем с корневой морфемой люб- :
КС-1: ‘любовь к ближним’ (83 словоупотребления: 38 – любовь ; 12 – любить ; 11 – полюбить ; 4 – полюбивши ; 2 – возлюбить ; 2 – любовней ; 2 – человеколюбивый ; 1 – человеколюб ; 1 – человеколюбие ; 1 – любимый ; 1 – люби́ м ; 1 – полюбивший ; 1 – дружелюбнее ; 1 – любивший ; 1 – нелюбовь ; 1 – нелюбяй ; 1- чадолюбно ; 1 – полюбовно ; 1 – миролюбиво ); условие и непременное проявление такой любви – служение ближним, ср.: «Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куриная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, все употребила на него и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш – Россия!» [5, с. 96];
КС-2: ‘любовь к Богу’ (48 словоупотреблений: 23 – любовь ; 4 – полюбить ; 4 – Человеколюбец ; 3 – любить ; 3 – любимый ; 3 – любящий ; 2 – любовный ; 2 – человеколюбие ; 1 – Человеколюбце ; 1 – возлюбить ; 1 – Возлюбленный ; 1 – любы ); условие такой любви – любовь к «братьям» (к ближним), ср.: «Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда Сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить Того, Которого никто не видал? Какими молитвами и усильями вымолить у Него эту любовь ? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к Богу Самому» [Там же, с. 88–89];
КС-3: ‘любовь к (своему) делу’ (42 словоупотребления: 19 – любить ; 9 – любовь ; 3 – любимый ; 3 – любитель ; 2 – полюбить ; 2 – влюбиться ; 1 – возлюбить ; 1 – любящий ; 1 – наилюбимейший ; 1 – браннолюбивый ); результат такой любви – успешное исполнение дела, ср.: «Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело <…> – и он это сделает, он это исполнит, потому что любит свое искусство» [Там же, с. 62–63];
КС-4: ‘любовь к земле, отечеству, России’ (39 словоупотреблений: 19 – любить ; 9 – любовь ; 4 – возлюбить ; 4 – человеколюбивый ; 2 – полюбить ; 1 - полюбивши ); условие и непременное проявление такой любви – делать нужное ей «дело», ср.: «Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит . Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня востор-гнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел» [Там же, с. 80];
КС-5: ‘любовь Государя к «народам»’, в которой проявляется его «образ Божий» (три словоупотребления: 3 – любовь ), ср.: «Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна любовь , и таким образом станет видно всем, почему Государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. <…> Все к тому ведет, чтобы вызвать в Государях высшую, Божескую любовь к народам» [Там же, с. 45];
КС-6: ‘любовь как основание Божественной Литургии’, непременное условие сохранения целостности «общества» (восемь словоупотреблений: 8 – любовь ), ср.: «И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви , должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию , при Священной Трапезе Любви » [Там же, с. 394–395].
Как явствует из приведенных фрагментов, частные контекстуальные смыслы находятся в тесной внутритекстовой взаимосвязи, в совокупности отображают целостное представление Гоголя о благополучии граждан и всей страны как основывающемся на христианском принципе любви , ср.: ‘любовь к Богу’ (КС-2) своим условием имеет ‘любовь к ближним’ (КС-1), ‘любовь к земле, отечеству, России’ (КС-4), на которую повествователя поднимает, по его признанию, «высшая сила», своим условием и непременным проявлением имеет ‘любовь к (своему) делу’ (КС-3),
‘любовь Государя к «народам»’ (КС-5) – следствие того, что «Государь есть образ Божий», земное воплощение Божественной любви, которая, в свою очередь, по итожащему контекстуальному смыслу, явлена в «Божественной Литургии» (КС-6).
Взаимосвязь частных смыслов обусловлена единящим их центральным представлением о духовной, братской близости людей в Боге (в христианской любви ) как основе всего земного устроения, что хорошо соотносится с тем универсальным определением любви, которое было найдено впоследствии классиком русской религиозной философии В. С. Соловьевым: «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое, в силу эгоизма, мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни» [19, с. 511].
По-своему органично – акцентирующим гармонию диссонансом вписывается в этот ряд КС-7 (два словоупотребления: 1 – любовный ; 1 – любовница ): ‘любовь как чувство, основанное на половом влечении’, – такое чувство, которое само по себе, вне одухотворенности, бессмысленно, ср.: «Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые…» [5, с. 188]. Добавим: в «Правиле жития в мире» Гоголь разъясняет, как любовь к ближним соотносится с представлением о любви в сакральном ее смысле: «Равным образом и на всякую земную любовь нашу, как бы чиста и прекрасна она ни была, мы должны взирать, как на одни видимые и недостаточные знаки бесконечной любви Божией. Это только одни искры, одни края той великолепной ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная любовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не может вместить Самого Бога» [Там же, с. 304].
КС-8: ‘необоснованно высокая оценка собственных качеств, свойств’, то есть ‘гордыня’, ‘тщеславие’ (двадцать словоупотреблений: 9 – честолюбие , 7 – самолюбие , 1 – себялюбие , 1 – чинолюбье , 1 – честолюбец , 1 – влюбиться ), ср.: «Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других» [Там же, с. 199].
Признаки 1, 2, 4, 5 находятся в тесной связи друг с другом: без любви к России, по мысли писателя, нет любви к Богу и к братьям; без любви к ближнему нет любви к Богу [Там же, с. 8–89, 97, 100, 10 7]; а любовь к ближним стяжается благодаря милости Государя (из- вестно, что пристрастное отношение к царю в светском смысле связано было с материальной поддержкой; непристрастное, основанное на идее богоизбранности предполагает «полномощность» власти, монарха [Там же, с. 121, 42]).
Признак 8, не соотносящийся с вектором «Я и Бог», основывается на группах толкований «Я сам» (как гордость / гордыня ), «Я и другие» (как тщеславие ) и рассматривается как нарушение связи творения с Творцом, при этом трактуется в гоголевском тексте крайне отрицательно.
Заключение
Двучастное поле «Грехи / добродетели» в духовной прозе Гоголя включает шестнадцать соотносительных микрополей, различающихся по значимости «страстей» (греховных навыков) и соответствующих им добродетелей. Цепь грехов и пути борьбы с ними в святоотеческой традиции понимаются как основывающиеся на гордости и любви . В духовной прозе Гоголя эти лексемы выражают преимущественно церковно-религиозные (сакральные) узуальные значения и контекстуальные смыслы – в их соотнесенности с секулярными. Высокая частотность лексем с корневыми морфемами горд - / люб - свидетельствует о том, что явления, обозначаемые этими лексемами, являются ключевыми в духовной прозе писателя. Духовно-нравственное здоровье России и россиян, по представлениям Н. В. Гоголя, обусловливается следованием основополагающим принципам христианства.
Список литературы Лексико-семантические поля "гордость" и "любовь" в духовной прозе Н.В. Гоголя: значения и смыслы ключевых лексем
- Авва Дорофей, преп. Душеполезные поучения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 432 с.
- Волков В.В. Филология в системе современного гуманитарного знания: Учеб. пособие / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 221 с.
- Волков В.В., Волкова Н.В. Семантическая доминанта и семантическое поле как опорные единицы анализа художественного произведения // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 279-283.
- Волков В.В., Гладилина И.В., Скаковская Л.Н. Литература духовного реализма в преподавании русского языка как иностранного // Казанская наука. 2017. № 3. С. 49-54.
- Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. и писем: в17т. Т.6: Выбранные места из переписки с друзьями. М.; Киев: Изд-во Моск. Патриархии, 2009. 744 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1999.
- Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958.
- Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. М.: Астрель: АСТ, 2003. 1578 с.
- Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: В 2 т. Т. 1. М.: Рус. яз., 2000. 1209 с.
- Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М.: Благовест, 2013. 640 с.
- Литвинова Л.В. Гордость // Православная энциклопедия. Т. 12. М.: Правосл. энциклопедия, 2006. С. 108-112.
- Некрасова А.В. Реконструкция текстового лексико-семантического поля как метод изучения духовной прозы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 86-91.
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и Образование, 2018. 1376 с.
- Павлык Н. Грех и добродетель по учению святителя Тихона Задонского. М.: Русский Хронографъ, 2011. 386 с.
- Полный православный богословский энциклопедический словарь: в 2 т. Т. 1. М.: Возрождение, 1992. 1119 с.
- Православная энциклопедия / Под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. 42. М.: Православная энциклопедия, 2016. 752 с.
- Прокофьев А.В. Гордость // Этика: энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2001. С. 90-92.
- Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. М.: Астрель: АСТ, 2008. 447 с.
- Соловьев В.С. Смысл любви // Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 493-547.
- Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 2. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1938. 1040 с.
- Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка: в 2т. Т.1. М.: Рус. яз., 2001. 624 с.
- Этимологический словарь славянских языков. Вып. 7 / Под ред. О. Н. Трубачева. М.: Наука, 1980. 224 с.
- Этимологический словарь славянских языков. Вып. 15 / Под ред. О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1990. 263 с.