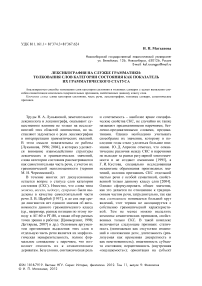Лексикография на службе грамматики: толкования слов категории состояния как показатель их грамматического статуса
Автор: Матханова Ирина Петровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Проблемы современной лексикографии
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируются способы толкования слов категории состояния в толковых словарях с целью выявления способов семантизации комплексасодержательных признаков, свойственныхданному классу слов.
Слова категории состояния, часть речи, лексикография, толковые словари, семантические признаки
Короткий адрес: https://sciup.org/14737958
IDR: 14737958 | УДК: 811.161.1+
Текст научной статьи Лексикография на службе грамматики: толкования слов категории состояния как показатель их грамматического статуса
Труды Н. А. Лукьяновой, замечательного лексиколога и лексикографа, оказывают существенное влияние не только на исследователей этих областей лингвистики, но заставляют задуматься о роли лексикографии в интерпретации грамматических явлений. В этом смысле показательны ее работы [Лукьянова, 1996; 2004], в которых уделяется внимание взаимодействию структуры лексических и грамматических значений, слова категории состояния рассматриваются как самостоятельная часть речи, с учетом их грамматической неполноценности (термин М. И. Черемисиной).
В течение многих лет дискуссионным остается вопрос о статусе слов категории состояния (СКС). Известно, что слова типа можно, весело, недосуг, сумрачно были выделены в качестве самостоятельной части речи Л. В. Щербой [1957], и до сих пор среди лингвистов нет единого мнения об автономности данного грамматического класса (ср., например, разные позиции по этому поводу в АГ-60 и РГ-80, а также обзор разных точек зрения в работах: [Циммерлинг, 1998; Дегтярева, 2007] и др.). Основным аргументом противников выделения этих слов в отдельную часть речи является их морфологическая невыразительность, полное формальное совпадение с наречием, что позволяет относить их к семантическим дериватам. Безусловно, синтаксическая роль и сочетаемость – наиболее яркие специфические свойства СКС, не случайно их также называют предикативными наречиями, безлично-предикативными словами, предикативами. Однако необходимо учитывать своеобразие их значения, которому в последние годы стало уделяться большее внимание. Ю. Д. Апресян отмечал, что семантические различия между СКС и наречиями не выходят за рамки регулярной многозначности и не создают омонимии [1995], а Г. И. Кустова, специально исследовавшая механизмы образования производных значений, склонна признавать СКС отдельной частью речи с особой семантикой, свойственной только данному классу слов [2004]. Однако сформулировать общее значение, как это делается по отношению к традиционным частям речи, затруднительно, так как под состоянием понимается большой круг явлений, этот термин не ассоциируется с собственно грамматической характеристикой. Тем не менее можно выделить комплекс семантических признаков, свойственных только СКС. В такой комплекс включаются следующие признаки: статичность (понимаемая как отсутствие изменений в «положении дел»; длительность (реализуемая как временная дискретность и как немгновенность); инактивность субъекта состояния; перцептивность (внутренняя «ощущаемость»); ориентация на субъект
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © И. П. Матханова, 2012
восприятия, а не субъект состояния. (Подробнее о комплексе признаков, свойственных СКС, см.: [Матханова, 2005]). Эти признаки устанавливались на основе анализа корпуса высказываний с предикативными наречиями: сочетаемости с так называемыми «тестами», показателями наличия в слове той или иной семантики [Семантические типы предикатов, 1982], причем учитываются и аномальные явления; семантической дифференциации синонимических конструкций (адъективных, наречных, глагольных); типовой вариативности конструкций (типов категориальных ситуаций, по А. В. Бондарко [2002]). Представляется, что в этом ряду немаловажным фактором является интерпретация лексикографических толкований, что еще не было предметом внимания лингвистов.
Для анализа было выбрано несколько наиболее авторитетных толковых словарей русского языка разных лет: словарь Д. Н. Ушакова (СУ) [1935–1940], Словарь русского языка в 4 томах под ред. А. П. Евгеньевой (МАС) [1985–1988], Большой академический словарь русского языка в 20 томах (БАС-2) [2004–2011] и сопоставлены данные в них толкования СКС. Были выявлены имеющиеся различия и сходства се-мантизации одних и тех же слов.
Различия в словарном представлении СКС заключаются прежде всего в том, как представлена их грамматическая характеристика. В СУ эти слова не квалифицируются как самостоятельная часть речи, они даются либо как особое значение имен прилагательных ( немудрено – 2. в знач. сказ. ‘легко, просто, вполне естественно’ – рассматривается в статье к прилагательному немудреный ), либо наречий ( неудобно – 2. безл. , в знач. сказ. , кому-чему , с инф. ‘так, что нет достаточного удобства для чего-л.’ – в статье к наречию неудобно ). Если же производящее установить невозможно, то специальное указание части речи отсутствует, дается только помета, отмечающая особенности синтаксического употребления ( можно - в знач. сказ. , с инф. ‘возможно, есть возможность’).
МАС в разделе «Грамматическая характеристика слов в Словаре» указывает, что все СКС рассматриваются как наречия со стандартными синтаксическими пометами: безл. в знач. сказ., ср.: весело – 1. Нареч. к веселый. 2. безл. в знач. сказ. ‘О наличии веселья, о радостном настроении, господствующем где-л., о чувстве веселья, испытываемом кем-л’. Однако если нет современного наречия с близким значением, то слово дается в отдельной словарной статье, но помета сохраняется (без указания на отнесенность слова к наречию): мусорно, безл. в знач. сказ., прост. ‘О наличии мусора где-л.’; немудрено, в знач. сказуемого. Разг. 1. ‘легко, просто’.
В БАС-2 впервые предлагается не синтаксическая, а частеречная помета – предикатив . Она используется в том случае, когда, по мнению составителей, слово не производно от наречия, а также если можно говорить о самостоятельном значении, отличном от значения наречия, выступающего в качестве заголовочного слова, например: можно , предикатив. 1. ‘Возможно, есть возможность, условия для существования чего-л.’; грустно , нареч. 1. ‘Печально, тоскливо’. 2. В знач. предикатива . ‘О чувстве грусти, испытываемом кем-л.’ Тем не менее в БАС-2 чаще, чем в МАС, встречаются попытки восстановить «родословную» СКС, использовать в качестве заголовочного слова наречие, даже если приходится к этому значению ставить помету устар. или обл. , напр.: людно , нареч. 1. Устар. и обл. ‘Вместе с большим количеством людей; в большом количестве’. 2. в знач. предикатива . ‘Многолюдно’.
Большее единообразие наблюдается при представлении СКС, производных от имен существительных: они даются в словарной статье существительного с соответствующей пометой: безл. , в знач.сказ. – для СУ и МАС, в знач. предикатива – для БАС-2.
Этапы перехода ‘отдельное слово – самостоятельное значение – оттенок значения / употребление’ проявляются во всех словарях, что свидетельствует о справедливости отмечаемой лингвистами широкой зоны переходности между СКС и другими (мотивирующими) частями речи (например: [Бабайцева, 2000]). Следует отметить, что во всех отмеченных случаях используются близкие модели толкования в указанных словарях. Это сходство, по нашему мнению, обусловлено как раз тем, что лексикографы интуитивно опираются на общие семантические признаки СКС.
Можно выделить несколько типовых способов толкования СКС, одинаково характерных для всех вышеперечисленных словарей. (В статье специально не анализируются широко представленные случаи синонимического толкования, так как собственно частеречная специфика в них не эксплицируется).
При толковании через указание более широкого класса используются слова-идентификаторы, к которым можно отнести опорные компоненты состояние (‘О состоянии болезненной дурноты или опьянения’), положение (‘О плохом, скверном положении с чем-л., где-л’), чувство (‘О чувстве неудобства, стесненности, испытываемом кем-л.’), настроение (‘О праздничном настроении ’), окружающая обстановка (‘О неблагоприятной, неблагополучной окружающей обстановке ’). В этом случае все перечисленные семантические признаки содержатся в слове-идентификаторе: стабильное ‘положение дел’, воспринимаемое субъектом, но не зависящее от него, длящееся определенный период времени, за пределами которого начинается новое. К этому же типу можно отнести и толкование через слово ‘ощущение’, очень важное для СКС, так как в дополнение к уже указанным свойствам оно актуализирует сему ‘внутреннее восприятие’ (‘Об ощущении прохлады, испытываемом кем-л.’). Близко к словам-идентификаторам и слово погода - ‘ состояние атмосферы в данном месте в данное время’ (МАС). Естественно, что слова чувство , настроение специализированы на выражении психического состояния, а окружающая среда , погода - на выражении состояния природы. В этом типе толкования помимо конкретизирующих компонентов (физический, душевный, плохой, хороший, благоприятный и пр.) могут встречаться ак-туализаторы определенных семантических признаков, например: испытываемое кем-л. , где-л. и некоторые другие, указывающие на наличие / отсутствие субъекта, его инактив-ность.
К иному частотному типу толкования относится использование в качестве опорного компонента слов с бытийной семантикой: наличие /отсутствие (‘О наличии мрака, темноты’, ‘Об отсутствии где-л. людей’), присутствует (‘Присутствует много людей’), есть (‘Есть желание, хочется’) и др., а также бытийно-локативной: о расстоянии, о месте, о расположении (‘О незначительном расстоянии’, ‘О расположении кого-, чего-л.’, ‘О месте, заключающем в себе ка- кую-л. опасность’). Эти компоненты фиксируют нединамичность, стабильность ‘положения дел’ и отсутствие активного субъекта. В других компонентах толкования находят отражение семы ‘ограниченный период времени’, ‘перцептивность’, ‘ориентированность на субъект восприятия’. Эти значения чаще всего заключаются в основной номинации (мрак, боль, волнение), особенно в словах с модальной окраской возможности, желания, необходимости, так как они свойственны только человеку и ощущаются им как внутренняя сила (‘нежелательно, неудобно’, ‘не следует, нельзя’, ‘невозможно вынести, вытерпеть’). Отметим, что частотно включение в толкование отрицательных операторов, в том числе с бытийной семантикой (нет): ‘нет желания’, ‘нет охоты’, ‘нет сил терпеть’.
Особым способом выражения семантического признака временности, непостоянства ситуации, отражаемой СКС, можно считать такие включенные в толкование компоненты, как: наступление срока , еще не наступивший , наступивший раньше срока (‘О близком, скором наступлении че-го-л.’). В толкованиях часто встречаются лексемы, указывающие на несоответствие данного состояния ожидаемому (также свидетельствующие о его временном характере). Например: преждевременно , об упущенном моменте , нет достаточного удобства , не хватает , неуместность , нарушение , ничем не наполненный (‘О нарушении спокойствия где-л.’, ‘не соответствует правилам приличия’, ‘О недостаточном освещении где-л.’). Обычно эти показатели одновременно фиксируют и оценку воспринимающим субъектом общей ситуации. Ср. также выражение пространственной оценки входящих в толкование слов: о небольшой глубине , о раннем времени , о множестве людей .
Важным для толкования СКС является то, что абсолютное их большинство дается в предложно-падежной форме с предлогом о, например: О состоянии душевного покоя, О наступлении срока для чего-л., О позднем времени. Выбор этой формы неслучаен, так как это наиболее типичный способ названия темы, т. е. содержит самое общее представление о ситуации и дает возможность исключить из нее субъект. Подобная форма позволяет обойтись без эксплицитно выраженного субъекта. Субъект может быть включен в нее при необходимости как пассивный перцептор, ср. типовой для СКС компонент – испытываемое кем-л., В таких толкованиях возможна замена семантического субъекта локативом, на который распространяется названное состояние и который входит в зону восприятия неназванного перцептора: О наличии влаги, сырости где-л.; Об отсутствии где-л. людей, живых существ. Аналогичная семантика выражается в толковании и при использовании безличных глаголов: ‘не хочется’, ‘разрешается’, ‘не подобает’, ‘не хватает’.
Иногда в толкование СКС включаются компоненты со значением причины, такие как: по поводу (‘О чувстве скорби, испытываемом кем-л. по поводу чего-л.’), или описательного типа о том , что сопряжено ; о том , что вызывает . Например: ‘О том, что сопряжено с опасностью, риском, может повлечь за собой какое-л. бедствие, несчастье’; ‘О том, что вызывает сожаление, разочарование, неутешительно’. Хотя это особый нюанс в представлении состояния, эти компоненты выполняют и дополнительную функцию выражения потенциальной возможности существования состояния, его непостоянного характера, зависимости от обстоятельств.
В заключение отметим, что толкование СКС, представленных в одной словарной статье с наречием, прилагательным или существительным, как правило, отличается от толкований производящих, что также свидетельствует о семантическом своеобразии анализируемого класса слов. Ср.: весело , нареч . 1. Радостно, оживленно. 2. В знач. предикатива . О чувстве радости, испытываемом кем-л. (БАС-2); прохладный , - ая , -ое ; 1. Умеренно холодный, освежающий, дающий приятную прохладу. 2. безл. , в знач. сказ . Прохладно. О прохладной погоде (СУ).
Таким образом, в разных типах толкования СКС в том или ином виде регулярно повторяются названные выше основные семантические признаки. Они могут быть сконцентрированы в слове-идентификаторе, а могут быть «рассеяны» по другим компонентам толкования. Важно то, что одни и те же семантические признаки постоянно присутствуют – явно или скрыто – в толкованиях СКС как отдельной лексемы; отдельного значения, включенного в словарную статью одноименного наречия, и даже употребле- ния. Однотипность толкования, настойчиво возникающая в словарях разных лет и по-разному квалифицирующих безлично-предикативные слова как автономную часть речи, позволяет говорить об устойчивости их семантической специфики, и это еще один довод в защиту слов категории состояния, которую провозгласил в 1950-е гг. Н. С. Поспелов [2009].