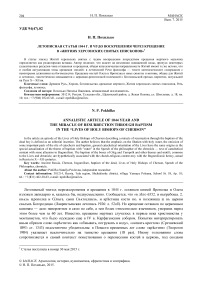Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
Автор: Похилько Н.П.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье эпизод Житий херсонских святых с чудом воскрешения посредством крещения мертвого мальчика определяется как редакторская вставка. Автор полагает, что акцент на возлиянии освященной воды, пропуск некоторых существенных разделов чина оглашения и крещения, общая катехизическая направленность Житий имеют те же истоки, что и особая актуализация темы крещения «водой» в летописной Речи философа - тексте катехизического содержания с некоторыми аллюзиями на богомильство. Крещение костей Олега и Ярополка и иные сюжеты и мотивы, общие для Житий и летописи, гипотетически связываются с церковно-религиозной полемикой с богомильской ересью, вероятно, актуальной на Руси X-XII вв.
Древняя русь, херсон, богомильство, крещение мертвого, жития херсонских святых епископов, речь философа, летопись
Короткий адрес: https://sciup.org/14118116
IDR: 14118116 | УДК: 94(47).02
Текст научной статьи Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
Летописный эпизод перезахоронения и крещения в 1044 г. останков князей Ярополка и Олега изложен лапидарно и, казалось бы, недвусмысленно. Сообщается, что «в лѣто 6552. и выгребоша. 2. кнѧзѧ ꙗ рополка и Ѡльга. сына Свѧтославлѧ. и крѣстиша кости єю. и положиша ꙗ въ цьркви свѧты ꙗ Богородица» (Лаврентьевская летопись 1926: л. 52об). Но крещение останков по церковным канонам — дело невероятное и само по себе, а тем более относительно язычников, умерших перед этим более чем за 60 лет. Известно, крещение мертвых случалось в первые века христианства у монтанистов, что было осуждено еще в IV в. Карфагенским собором. Попытки интерпретировать иным образом слово «крѣстити» как «обмывать, погружать в воду», «осенять крестом» (Срезневский 1893: ст. 1343) недостаточно убедительны: в Повести временных лет слово «крѣстити» (Творогов 1984) указывает исключительно на таинство крещения (18 раз). Иному толкованию слова сопротивляется и самый контекст повествования о перенесении костей в церковь, под сводами
Статья поступила в номер 30 мая 2015 г.
Вып. 7. 2015
Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
которой содержались останки членов княжеской семьи, умерших на Руси, уже просвещенной Крещением 988 г., и перезахороненных в 1007 г. в правление князя Владимира. Летописец в статье под 1007 г. не сообщает о каких-либо дополнительных обрядовых действиях, ограничиваясь словами: «Пренесени си въ святую Богородицю»1 (по тексту Новгородской первой летописи младшего извода).
Уклоняясь от сколько-нибудь исчерпывающего изложения существующих в историографии гипотез2, посвященных сюжету крещения костей, отметим лишь то, как объясняется сама вероятность и возможность совершения дела, столь необычного. До какого-то периода исследователи ограничивались, в основном, указанием на невежество древнерусского клира, оставшегося без присмотра греческого митрополита (Соколов 1913: 44—45). Сегодня преобладает взгляд на действие, совершенное по инициативе князя Ярослава, как на некую посмертную рецепцию христианства Ярополка и Олега. А. В. Назаренко (Назаренко 2001: 375—390), развивая тему связей Руси и западных стран, предполагает, что князь Ярополк, возможно, был крещен немецкими миссионерами при жизни (и его потомки сохранили лишь неясные сведения об этом), а Олег оставался язычником. И тогда, возможно, крестили их останки совместно, или крестили лишь кости Олега, но в воспоминаниях свидетелей событие запечатлелось как крещение костей обоих князей. В любом случае, ученый видит в этом эпизоде волевой акт Ярослава, осуществленный по идеологическим соображениям. Известная рекомендация новгородского епископа XII в. Нифонта крестить на всякий случай сомневающегося в своем крещении, как пишет автор, говорит о неисключительной практике перекрещивания в сомнительных случаях. Последнее утверждение, тем не менее, касается крещения живых, а не мертвых. Ф. Б. Успенский (Успенский 2002: 166) сосредотачивает внимание на скандинавских связях древнерусского княжеского дома, полагая, что оба князя, возможно, были оглашаемыми, прошедшими обряд prima signatio и не принявшими при жизни таинство крещения. Но проблема в том, что, хотя издавна и существуют разные мнения (Фаррар 2001: 146) относительно прижизненного христианского статуса и посмертной судьбы оглашаемого, не успевшего креститься, дополнительных посмертных обрядовых восполнений в случае смерти катехумена, искренне стремившегося креститься, видимо, никогда не было. Если Ярополк и Олег умерли оглашаемыми по греческому обряду или не прошедшими конфирмацию по римскому обряду3, их останки можно было перезахоронить в освященную церковь без дополнительных действий и беспрепятственно. Но, вероятно, препятствие все же было.
Для нашей темы особый интерес представляет сопоставление текста ряда летописных известий и текста Житий херсонских святых , хорошо изученного памятника агиографической письменности4, несомненно, известного на Руси к. X—XIII вв. Петр Толочко в статье 2010 г. (Толочко 2010: 21) проводит параллель между мученичеством херсонского святого епископа Василея/Василия5 по тексту Житий и летописным описанием мученической смерти князя Игоря Ольговича и необычного завещания митрополита Константина, доказывая, что летописец не только знал текст Житий херсонских святых , текстуально заимствуя из него, но и, более того, был знаком с ним в его греческом варианте, близком Супральской минее (РНБ. ОП. I. Д. 72; Ljubljana. Narodna in univerzitetna knjižnica. Cod. Kop. 2; Warszawa. Biblioteka Narodowa. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich. № 21) XI в. А авторы недавно изданной монографии (Могаричев и др. 2012: 359), посвященной исследованию житийного текста в контексте херсонских исторических реалий, считают вероятным, «что именно через Херсон, а может быть и с херсонскими духовными лицами, данная версия Житий могла оказаться на Руси», что, конечно же, обращает нас к Корсунской легенде крещения князя Владимира.
Согласно Житиям язычники умертвили епископа Василея, связав ему ноги и волоча его по земле, а затем выбросили тело за городские ворота. Тем же способом убили и некоторых следующих
Вып. 7. 2015
миссионеров. Самый мотив раздирания и посмертного поношения плоти примечателен, особенно, в свете известной (по тексту летописи) просьбы русского митрополита Константина тем же образом обойтись и с его телом, когда он умрет, и летописного же описания убийства князя Игоря Ольговича, сопровождавшегося в 1147 г. волочением за ноги. Аналогию этому сюжету находим и в летописном рассказе о том, как князь Владимир после крещения, вернувшись в Киев в сопровождении корсунского клира, обошелся с идолом — Перуном, которого тем же образом, что и херсонского святого, «умертвили» и выбросили за пределы территории, подвластной князю. После ниспровержения, избиения и изгнания Перуна на том холме, где он стоял, поставили церковь святого Василия – небесного патрона новокрещенного князя Владимира. Так же, согласно некоторым иным летописным источникам6, расправились с идолом и в Новгороде. В историографии ниспровержению Перуна приводят соответствия в фольклоре, скандинавском эпосе, Священной истории, святоотеческих писаниях, Хронике Георгия Амартола. В. Петрухин (Петрухин 2006: 137—140) считает, что летописец воспроизвел данный сюжет как этикетный мотив, заимствованный у византийского хрониста. Но источник летописного сюжета, быть может, находится не только в литературных реминисценциях, но и в общей религиозной и церковно-обрядовой парадигме, объединяющей и летописное сказание и те или иные тексты.
Летописная статья 1159 г. рассказывает, что «народи же вси дивишася» на погребение, совершенное согласно экстравагантному завещанию митрополита Константина, а князь, «здумавъ с мужи своими и съ епископомъ», взяли затем тело его и похоронили достойно вопреки воле усопшего. Этому предшествует сообщение об изгнании ростовцами и суздальцами епископа Леона, о котором далее в статье 1164 г. говорится, что он был еретик и учил паству не есть мяса в Господские праздники, приходившие на среду и пятницу. Таким образом, повествование о завещании Константина обрамлено рассказом о неприятии на Руси практики крайнего аскетизма, особым образом востребованного в охваченной богомильской ересью Византии, откуда и пришел некогда митрополит Константин. Богомилы, влияние которых в Константинополе распространялось даже на церковную иерархию, как известно, считали грехом любое кровопролитие (Васильев 1891: 174—176), в том числе, и убийство животного (были вегетарианцами) (Ангелов 1954: 63) и гнушались телом, по их учению, сотворенным сатаной (Ангелов 1954: 59; Борилов Синодик: П. 42 [50], 44 [51]; Иванов 1970: 62—63; Радченко 1910: 73—131) из глины. Описанное неприятие на Руси неканонических пищевых ограничений и посмертного поношения плоти объединяет общий контекст полемики с подобными воззрениями, на волне которой, возможно, и был актуализирован во вновь отредактированной летописи мотив связывания, волочения, избиения и извержения идола Перуна. П. Толочко (Толочко 2010: 21) летописное повествование о смерти Игоря Ольговича и посмертное прославление его, как первого местночтимого святого, не без оснований связывает с образовавшимся в Чернигове оппозиционным Киеву церковным кружком, состоявшим из значительного числа греческого по происхождению клира.
Эпизоду крещения костей предков Ярослава имеется, на первый взгляд, отдаленная параллель, в одном из сюжетов Житий херсонских святых , где описывается, как епископ Василей по просьбе безутешных родителей воскресил посредством таинства крещения их сына. Вопреки распространенному мнению в агиографической литературе нет иных примеров, когда бы святой крестил мертвых, воскрешая их таким образом (Могаричев и др. 2012: 351) (не путать с исцелением!). Херсонские Жития в этом смысле столь уникальны, что заставляют подозревать в данном сюжете намеренную редактуру. Тем более что текст Житий — компиляция, на это указывают имеющаяся несогласованность сюжетных линий (Могаричев и др. 2012: 335—338), например, единовременное существование в одном городе Херсонесе нескольких епископов, именование всех херсонских святых мучениками при том, что не все из них приняли мученическую смерть. Однако последние исследования сходятся на том, что сюжет крещения мертвого юноши входил в состав протографа
Вып. 7. 2015
Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
наиболее древних редакций Житий 7, и лишь в более поздних редакциях8 его сокращали или вовсе изымали. Но если обратиться к канону Службы свв. епископам херсонским, написанному Иосифом Гимнографом предположительно в середине – второй половине IX в., то здесь нет ни слова о воскрешении мертвого тела через крещение. Иосиф сюжет воскрешения описал в следующих выражениях: «Василий славный мертвеца воскреси призыванием Божественным», «умершии неверием умершаго востанием получиша жизнь вечную, тобою веровавше Христу Богу нашему, мучениче священнейший Василие», «Един, мертвым вдыхаяй воскресение, молитвою твоею умершаго, Василие, воздвизает, уясняя твое проповедание» (Могаричев и др. 2012: 384—385). Речь идет о том, что св. Василей воскресил умершего молитвою (не крещением) — сюжет не редкий для житийных повествований. Вряд ли Иосиф Гимнограф знал предание о воскрешении св. Василеем мертвого посредством крещения, иначе трудно объяснить, почему он не упомянул столь яркий мотив. В синаксарной греческой редакции по «Синаксарю Константинопольской церкви», протограф которой восходит к X в. (Виноградов 2010: 15), эпизод воскрешения ребенка не упоминает его крещение. Более поздняя синаксарная редакция (Par. gr. 1587. XII в.) говорит о воскрешении «посредством возлияния освященной воды, по чину Крещения» (Виноградов 2010: 204), но не о совершении самого таинства крещения. И лишь в пространной минейной, греческой (ГИМ. Синод. гр. 376 (Влад.). XI в. Л. 171; Patmiacus gr. 736. XIV(?) в.) и славянской (ГИМ. Синод. слав. 992. XIV в. Л. 64г), редакции появляется описание совершенного обряда с такими подробностями, которые заслуживают самого пристального внимания.
В четьих версиях Житий сюжет воскрешения мертвого через крещение в греческом и в славянском тексте изложен одним общим не совсем обычным порядком:
|
ГИМ. Синод. слав. 992. XIV в. Л. 64г. Изд. Латышев. С. 69. |
ГИМ. Синод. гр. 376 (Влад.). XI в. Л. 171. Изд. Латышев. С. 59. В пер. А. Ю. Виноградова (Виноградов 2010: 168) |
Патмосская рукопись. Patmiacus gr. 736. XIV(?) в. В пер. А. К. Шапошникова (Могаричев и др. 2012: 34) |
|
«Свѧтыи же епископъ шедъ коупнѡ съ свѧтители слоужащеими потребѣ носѧще и ѧже на свѧтое крѣщенїе с ꙋ против̾наа, на грѡбъ прїидоша и ѿкрывше камыкъ и в̾лѣзрша въ грѡбъ, где бѧше оумръшїи сынъ ихъ. И прекрѣстивъ свѧтыи епископъ и воз̾дох̾ноувъ, р ꙋ к ꙋ полѡжи на мерт̾ вемъ, помоливъ ѧже животвор̾наго крѣщенїа потребнаа надъ тѣлѡмъ, аки живоу ем ꙋ с ꙋ щю, и возлїавъ свѧщен̾н ꙋ ю вод ꙋ на тѣлѡ, сътворивъ приз̾ванїе свѧтыя Троица. И т ꙋ абїе въскрсе мер̾твыи» |
«И вот блаженный Василий, вместе с двумя священниками и родственниками умершего, достигнув гробницы и неся с собой также принадлежности для Крещения, после того как отвалили камень, кладет руку на юношу и, словно над живым, произносит все тайноводственные слова, освящает воду, поливает юношу, добавив к этому призывание Святой Троицы, и представляет его живым перед присутствующими, ведь мертвый воскрес и был возвращен родителям» |
Василей был убежден народом, и вместе с ними он пошел к (могильному) памятнику… Приблизились они к надгробию умершего. Был поднят возлежащий сверху камень. …Василей, перекрестив и возложив руку, поставил мертвого, затем произнес молитву, затем перекрестил (еще раз). После этого он пролил слезы и издал глубокий стон, и начертал крест в третий раз на всем теле, как определяет закон об обряде крещения и над тем мертвым (как если бы он был жив). И налил воду в лоханку, освятил таинственными молитвами, сопроводил словами катехизиса, возлил воду на тело во имя Отца и Сына и (Святого) Духа. И …встает мертвый. |
Вып. 7. 2015
В. В. Латышев (Латышев 1906: 43—47) в своем анализе литургических особенностей обряда крещения по тексту Житий отметил ряд существенных отличий. В Житии возложение рук9 на отрока приведено, как он думает, не на своем месте. Обычно передача Духа Святого посредством возложения рук происходит при миропомазании, которое совершается после крещения водой. Здесь же оно предшествует и освящению воды, и ее возлиянию на крещаемого. Исследователь соотносил текст Житий с чином крещения первых веков христианства. Но, как уже говорилось, сюжет крещения отрока введен не ранее конца IX в., и более вероятно, что редактор ориентировался на современный ему чин крещения, а не на древний обряд.
В Житиях часто упоминается вместе с крещением и оглашение. Известно, что с первохристианских времен крещению предшествовало оглашение, на котором совершалось научение оглашаемого основам христианской веры и жизни, произносились запретительные молитвы, совершалось отречение катехумена от сатаны и сочетание Христу, затем оглашаемый произносил исповедание веры, за которым следовало крещение. Древняя огласительная практика как довольно длительный процесс ко времени христианизации Руси регрессировала в Византии в сторону краткосрочного детского оглашения10. И, тем не менее, в Житиях херсонских святых епископов катехизация представлена необходимым этапом подготовки к крещению (даже мертвого!). В греческом тексте Житий словами катехизиса сопровождается крещение мертвого мальчика, в славянском тексте оглашаются уверовавшие его родственники. Оглашением сопровождает крещение и еп. Капитон. Чудо воскрешения, совершенное не молитвой, а посредством крещения, резонирует и с общей миссионерской направленностью сюжетной линии Житий , что указывает на аудиторию, в которой катехизация и крещение — темы особенным образом востребованные.
М. Арранц (Арранц 1988) закономерно полагая, что богослужебную практику древнерусская церковь переняла из Византии, исследует употреблявшийся на Руси чин оглашения и крещения по Костантинопольскому Евхологию с чином, предназначенным для оглашения и крещения детей, и по соответствующему тексту в Потребнике патриарха Филарета Романова, где в чине оглашения и крещения приводится обряд присоединения к православию еретиков11. Греческая церковь оглашение и крещение взрослых из язычников в X—XI вв. осуществляла, в целом, тем же порядком, что известен по этим источникам (Арранц 1988). В Потребнике назнаменование еретика (уже отрицавшего от ереси на 1-м этапе) оглашаемым 2-го этапа описано следующим образом: «поставляет того иерей о вечерней године пред церковными дверми к востоком, и дунув нань трижды, знаменает чело его и уста и груди, и возложив руку на того главу, глаголет молитву сию: О имени твоем, Господи Боже…». Обряд запрещения на дьявола здесь аналогичен по своему содержанию (Арранц 1988): «поставляет иерей хотящаго креститися пред дверми церковными и дунув трижды на лице его и на очи, глаголя отрицательныя молитвы: Запрещает ти, дияволе, Господь наш Иисус Христос...». Соответственно, когда в Житиях епископ «воздыхает/издает стон», знаменует мертвого «оглашаемого» крестом и возлагает на него руку с молитвой, он совершает подобное тому, что обычно совершалось в те времена при оглашении и крещении еретика (и язычника), присоединяемого к православию. В таком ключе освящение воды, вопреки замечанию Латышева (Латышев 1906: 45), приведено на своем месте — непосредственно перед возлиянием воды на крещаемого, миропомазание же здесь опущено. В. В. Латышев предположил, что формулу отречения крещаемого от дьявола заменяет «вздох» епископа. Но интерпретация эпизода крещения Василеем как единого процесса оглашения и крещения не оставляет места для формулы отречения от дьявола и сочетания Христу (и исповедания веры), связывая священническое «воздыхание» с назнаменованием оглашаемого или с отрицательными молитвами. Замалчивание миропомазания в эпизоде крещения мертвого может быть свидетельством «водного» крещения еретиков, чье
Вып. 7. 2015
Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
«духовное» крещение (миропомазание) было известно и принято византийским клиром. Чин присоединения к православию во все времена был основан на принципе, согласно которому главные церковные таинства12 не совершаются дважды над одним человеком: невозможно, например, перекрещивать или вновь миропомазывать латинян, прошедших конфирмацию.
Латышев заметил также, что, возможно, автор Житий умышленно поменял последовательность действий, поставив миропомазание до крещения водой, «желая показать, что главный обряд таинства есть крещение водою, после которого немедленно и совершилось чудо (воскрешение)» (Латышев 1906: 45). И хотя, действительно, значение воды акцентировано, перестановки действий, согласно нашей интерпретации, не было, но некоторые существенные акты чина оглашения и крещения (отрицание от дъявола и сочетание Христу, миропомазание) были опущены, вероятно, вследствие недопустимости их повторного совершения. Синаксарная же редакция (Par. gr. 1587. XII в.), как указывалось выше, и вовсе описывает чудо воскрешения лишь посредством возлияния освященной воды.
В этом свете уместно вспомнить и иное свидетельство древнерусской огласительной практики -летописный текст катехизического содержания Речь философа , в заключительной части которой чрезвычайно выделена тема крещения водой. В ответ на вопрос оглашаемого князя Владимира: «Что ради (Христос)… водою крѣстися?» (Лаврентьевская летопись 1926: Л. 35об—36) излагается ряд типологических обоснований крещения водою. Жития херсонских епископов и Речь философа объединяет ярко выраженный общий контекст оглашения и христианской миссии. Тексты ориентированы на аудиторию, которая придерживалась, по всей видимости, столь неортодоксальных воззрений на одно из главных церковных таинств – крещение, что потребовалась дополнительная аргументация, чтобы убедить ее креститься водою. Смысл интерполяции с эпизодом крещения мертвого мальчика в Житиях тот же, что и смысл актуализации темы воды в летописной Речи . Исторически близкая локализация того и другого текста во времени и пространстве (X—XII вв. и Киев/Херсонес), летописное свидетельство о перемещении при князе Владимире корсунского священства в Киев, отмеченная выше внутренняя общность мотивов дает основание предполагать и общую для этих двух памятников культурно-религиозную ситуацию (необычную с точки зрения ортодоксии, как мы ее сегодня понимаем). Жития в описании крещения мертвого не только подчеркивают важность крещения водой, но и не упоминают ни отречение от дьявола (и сочетание со Христом), ни сообщение даров Св. Духа через миропомазание (изменяют чинопоследование, перемещая «духовное» крещение на место, предшествующее крещению «водному», согласно интерпретации Латышева). И, учитывая богомильские аллюзии, отмечаемые многими исследователями в Речи и других летописных эпизодах, небезразличным является тот факт, что болгарские богомилы крещение водою не признавали (Борилов Синодик: П. 47[54]), полагая достаточным будто бы уже принятое ими крещение «духовное». Не ориентировались ли редакторы и Житий и летописного текста на среду, находящуюся под влиянием подобных воззрений?
При всей ненадежности Иоакимовской летописи как исторического источника уместно вспомнить ее повествование о новгородском крещении, которому активно сопротивлялись новгородские люди, подстрекаемые жрецом Богомилом(!). Примечателен здесь рассказ от первого лица о том, как некоторые новгородцы, отказывались креститься, ссылаясь на то, что они уже крещены (не «духовным» ли богомильским крещением?). И тогда священники, чтобы отличить уже крещенных ими от некрещенных и изобличить лукавствующих, стали раздавать кресты тем, кого крестили – остроумное решение, если богомилы действительно были в древнем Новгороде! Еретики не почитали крест (Борилов Синодик: П. 51[58]), полагая абсурдным поклоняться орудию казни, и не носили нательные кресты.
В описанном Житиями обряде нет отречения от дьявола (как и сочетания Христу). Известно, что в учении богомилов, имевшем некоторые черты дуализма, сатане отводилась особая роль в творении мира: он создает все земное и плотское. Потому богомилы презирали сатанинское порождение — плоть и все производное от нее. Легко представить реакцию последователей этой ереси на предложение «отречься от сатаны»: для них «духовное» крещение и без того означало, что они от
Вып. 7. 2015
него уже отреклись. Византийские святители, осуществляя дело христианского просвещения, быть может, обращались с «заблудшими душами» недавних язычников из славян много более дипломатично, чем это подчас передают древние хронисты.
Жития херсонских святых отличаются и иными особенностями. Среди них — отсутствие посмертных чудес святых епископов Херсонеса. Исследователи пишут, что «нет никаких оснований предполагать, что они были в протографе, а затем изъяты поздними редакторами» (Могаричев и др. 2012: 338). В письменных источниках отсутствуют указания на поклонение херсонским епископам (их мощам), но есть свидетельства противоположной ситуации с другими святыми, связанными с Херсонесом (св. Климент Римский и Андрей Первозванный). Примечательно, что Жития херсонских святых не упоминают ни св. Климента, ни ап. Андрея, почитавшихся в Херсонесе, равно как и жития св. Климента и ап. Андрея Первозванного не упоминают херсонских святых миссионеров. Это тем более симптоматично, что как свидетельствует А. Ю. Виноградов (Виноградов 2010: 33), рассказ о смерти св. Василея составлялся по образцу апокрифических «Деяний Андрея и Матфия» — «памфлета» докетистов, отрицавших человеческую природу Христа. За посмертным крещением с акцентом на возлияние святой воды и посмертным поношением тела, за отсутствием посмертных 13 чудес и поклонения мощам, за иерусалимским происхождением херсонских епископов просматривается религиозная традиция, в какой-то степени противостоящая ортодоксальному религиозному учению. Ю. М. Могаричев. А. В. Сазанов и А. К. Шапошников (Могаричев и др. 2012: 356) видят здесь влияние политических реалий иконоборческого периода и политических предпочтений авторов/редакторов Жития , но свидетельства письменных источников намекают все же на то, что существовало некое неизвестного содержания еретическое уклонение херсонитов. Монах Епифаний (Виноградов 2005: 311—313) сообщал в 815—820 гг. о нестойкости корсунян в вере при всем их гостеприимстве и нищелюбии, он же приписывает им авторство в создании апокрифа «Деяния Андрея и Матфия». В это же время Федор Студит в своем письме называет епископов, сосланных в Херсонес, «обличителями совершенной здесь страшной дерзости против Христа» (Феодор Студит 2003: 401—402).
Канон Иосифа Гимнографа не содержит сколько-нибудь явных указаний на борьбу херсонских епископов с ересью своей паствы. Следует предположить, что не было и каких-либо необычных для житийного жанра эпизодов в тех Житиях , что читались на службе херсонским святым во времена Гимнографа. Так, когда же и при каких обстоятельствах сюжет крещения мертвого мог быть актуализирован и введен в Жития ? Полагая намеренное редактирование Житий связанным с неординарной ситуацией крещения и оглашения херсонским клиром Киева и Новгорода, укажем на богомильскую ересь, распространившуюся в X в. из Болгарии. Адепты «новоявившейся ереси»14 отвергали крещение водой (противопоставляя ему крещение Духом), пренебрегали плотью, отрицали почитание мощей, высмеивали веру в чудеса, не признавали почитание святых, исповедовали докетические представления о Воплощении (Бегунов 1973: 304, 336—338; Борилов Синодик: П. 39[46]; Кирило-методиевска енциклопедия 1985: 212; Православная Энциклопедия 2002: 471—473). Тексты четьих редакций Житий херсонских епископов , вероятно, были отредактированы в кон. X— нач. XI в. в миссионерских целях и в условиях полемики с аналогичными еретическими воззрениями, распространенными в древнерусской среде. Церковная полемика с учением, близким богомильской ереси, возможно, определяла редактирование в известном ключе и отдельных летописных статей, ею же могло быть обусловлено и широкое распространение (Могаричев и др. 2012: 361) Житий херсонских святых в Византии и новокрещенной Руси XI в. Она же порождала и неординарные, в глазах современной ортодоксии, церковно-политические и обрядово-религиозные ситуации, описанные в летописных статьях под 988, 1044, 1147 и 1159 годами. Прижизненное еретическое уклонение от ортодоксального христианского учения князей Олега и Ярополка, возможно, и было
Вып. 7. 2015
Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
тем препятствием к перезахоронению, которое стремились преодолеть посмертным «водным» крещением подобно крещению мертвого мальчика в Житиях херсонских епископов .
Список литературы Летописная статья 1044 г. и чудо воскрешения через крещение в «Житиях херсонских святых епископов»
- Алексеев А. И. 2003. Крещение костей (к интерпретации статьи Повести временных лет под 1044 г.). Древняя Русь. Вопросы медиевистики 1(11), 102-106.
- Ангелов Д. 1954. Богомильство в Болгарии. Москва: Иностранная литература.
- Арранц М. 1988. Чин оглашения и крещения в Древней Руси. Символ 19. Июль. URL: www.miguel-arranz.net/files/catechum_et_baptiz.pdf (Дата обращения 01.06.2015).
- Бегунов Ю. К. 1973. Козьма Пресвитер в славянских литературах. София: Българска академия на науките.
- Борилов Синодик. Historical materials. URL: ald-bg.narod.ru/biblioteka/bg_srednovekovie/borilov _sinodik/borilov_sinodik.htm (Дата обращения 01.06.2015).
- Васильев П. 1891. Богомилы. B: Андреевский И. Е (ред.). Энциклопедический словарь. Т. IV(7). Санкт-Петербург: Ефрон И. А., 174-176.
- Введенский А. М. 2009. Текстологический анализ летописного сказания о крещении Новгорода. B: Понырко Н. В. (отв. ред.). ТОДРЛ. Т. 60. Санкт-Петербург: Наука, 267-280.
- Виноградов А. Ю. 2005. Греческие предания о св. апостоле Андрее. Т. 1. Жития. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет (Библиотека «Христианского Востока»).
- Виноградов А.Ю. 2010. «Миновала уже зима языческого безумия…». Церковь и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики. Москва: Университет Дмитрия Пожарского; Русский фонд содействия образованию и науке.
- ГИМ. Синод. гр. 376 (Влад.).
- ГИМ. Синод. слав. 992.
- Дмитриевский А. А. 1901. Древнейшие патриаршие Типиконы иерусалимской (святогробской) и константинопольской (Великой) церкви. Труды Киевской духовной академии. Т. 12. Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира.
- Иванов Й. 1970. Богомилски книги и легенди. София: Наука и изкуство.
- Кирило-методиевска енциклопедия. 1985. Т. 1. София: Българската академия на науките.
- Лаврентьевская летопись. 1926. ПСРЛ. Т. 1. Вып. 1. Ленинград: Академия наук СССР
- Латышев В. В. 1906. Жития св. епископов херсонских. Исследование и тексты. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.
- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. 2012. Жития епископов херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. B: Сорочан С. Б. (гл. ред.). Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 1. Харьков: Антиква.
- Назаренко А.В. 2001. Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей в IX-XII вв. Москва: Языки русской культуры.
- Петрухин В. Я. 2006. Крещение Руси: от язычества к христианству. Москва: Астрель.
- Попруженко М. Г. 1907. Св. Козмы пресвитера слово на еретики и поучение от божественных книг. Сообщение. Памятники древней письменности и искусства CLXVII. Санкт-Петербург: Типография И. Н. Скороходова.
- Православная Энциклопедия. 2002. Т. V. Москва: Православная Энциклопедия.
- Радченко К. Ф. 1910. Этюды по богомильству: Народные космогонические легенды славян в их отношении к богомильству. B: Шахматов А. А. (гл. ред.). ИОРЯС 15. Кн. 4. Императорская Академия Наук
- РНБ. Оп. I. Д. 72.
- Соколов П. П. 1913. Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала XV в. Киев: Типография И. И. Чоколова.
- Срезневский И. И. 1893. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии наук.
- Творогов О. В. 1984. Лексический состав «Повести временных лет»: Словоуказатели и частотный словник. Киев: Наукова думка.
- Толочко П. 2010. «Емше, влачаху поверзше ужи за ноги». B: Ричка В, Толочко А. (науч. ред.). Ruthenica. Альманах середньовiчної iсторiї та археологiї Схiдної Европи. T. IX. Киев: Iнститут iсторiї України НАН України, 17-22.
- Успенский Ф. Б. 2002. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филологические очерки. Москва: Языки русской культуры.
- Фаррар Ф. В. 2001. Жизнь и труды святых отцов и учителей Церкви. Т. II. Москва: Сретенский монастырь.
- Феодор Студит, преподобный. 2003. Послания. Кн. 1. Москва: Приход храма Святого духа сошествие.
- Ljubljana. Narodna in univerzitetna knjižnica. Cod. Kop. 2.
- Mosq. GIM gr. 296.
- Par. gr. 1587.
- Patmiacus gr. 736.
- Warszawa. Biblioteka Narodowa. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich. № 21.