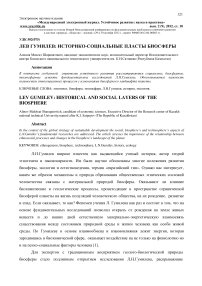Лев Гумилев: историко-социальные пласты биосферы
Автор: Алинов Махсат Шарапатович
Статья в выпуске: 2 (9), 2012 года.
Бесплатный доступ
В контексте глобальной стратегии устойчивого развития рассматриваются социальные, биосферные, техносферные аспекты фундаментальных исследований Л.Н.Гумилева. Обосновывается важность взаимосвязи этносоциальных процессов с изменениями биосферного ландшафта планеты.
Этногенез, биосфера, техносфера, л.н.гумилев, история, экология
Короткий адрес: https://sciup.org/14122244
IDR: 14122244 | УДК: 502(075)
Текст научной статьи Лев Гумилев: историко-социальные пласты биосферы
Л.Н.Гумилев широко известен как выдающийся ученый историк, автор теорий этногенеза и пассионарности. Им были научно обоснованы многие положения развития биосферы, экологии и естествоведения, термин «евразийский тип». Однако нас интересует, каким же образом механизмы и природа образования общественных этнических сословий человечества связаны с материальной природой биосферы. Оказывают ли влияние биохимические и геологические процессы, происходящие в пространстве ограниченной биосферой планеты на жизнь популяций человеческого общества, на их рождение, развитие и спад. Если оказывает, то как? Феномен учения Л. Гумилева как раз и состоит в том, что на основе фундаментальных исследований позволил открыть от рождения на земле живых веществ и до наших дней естественную материально-энергетическую взаимосвязь существования между состоянием природной среды и жизни человека как особи живой среды. По Гумилеву в основе взаимообмена и взаимовлияния лежит энергия, которая зародившись в биохимической сфере, оказывает воздействие на не только на физиологию но и на психо-социальные факторы человека [1].
Для экспертов с традиционным восприятием геолого-биологической природы биосферы стало подлинным открытием исследования Л.Н.Гумилева, раскрывающие социальные, духовные и этно-культурные артефакты истории планеты. Его всеохватывающие исследования демонстрируют: подобно тому как жизненная пространство, родившись на мертвой планете получило развитие до высших форм живого вещества, так же и разум человека трансформировался от примитивных следов исторической информации до ноосферной его формы. Бесценным открытием ученого является установление закономерности между развитием сферы разума и основных факторов цивилизации: популяции, расы, этноса, национальной самоидентификации, социума, государственности, свободы личности, интеллектуального капитала.
Природа Земли бесконечно разнообразна; человечество в отличие от прочих видов млекопитающих тоже разнообразно. При этом адаптивные способности человека на порядок больше, чем у прочих животных. Значит, в разных географических регионах и в разные эпохи люди и природные системы взаимодействуют по-разному. Между закономерностями природы и социальной формой движения материи существует постоянная корреляция. Но каков ее механизм и где точка соприкосновения природы и общества? Ученый доказывает, что эта точка есть, иначе не возникло бы вопроса об охране природы от человека. Таким образом, исследуемая автором проблема размещается на стыке трех наук: истории, географии (ландшафтоведения) и биологии (экологии и генетики).
Природа творит то, чего люди не в состоянии: горы и реки, леса и степи, новые виды животных и растений. А люди строят дома, сооружают машины, ваяют статуи и пишут трактаты. Природа этого делать не может. Есть ли между творениями природы и человека принципиальная разница? Утверждается, Да! Элементы природы переходят друг в друга... «Природа живет вечно, набухая той энергией, которую получает от Солнца и звезд нашей Галактики и радиораспада в глубинах нашей планеты. Биосфера планеты Земля побеждает мировую энтропию путем биогенной миграции атомов, стремящихся к расширению. И наоборот, предметы, созданные человеком, могут или сохраняться, или разрушаться. Пирамиды стоят долго, Эйфелева башня так долго не простоит. Но не вечны ни те, ни другая. В этом принципиальная разница между биосферой и техносферой, какие бы грандиозные размеры последняя ни приобрела» [2].
Базовым положением исследований Л.Н.Гумилева является определение им места и созидательной роли человека в биосфере, создавшего свою особую среду, которые он назвал «этносферой» и «этногенезом».
В проблему соотношения человека как носителя цивилизации с природной средой введено понятие «этнос» как устойчивый коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам, имеющий внутреннюю структуру», в каждом случае своеобразную, и динамический стереотип поведения. Именно через этнические коллективы осуществляется связь человечества с природной средой, так как сам этнос – явление природы. Однако вопросы о нациях и народностях, которые автор именует этносами, мало изучены и крайне запутаны. Несомненно одно – вне этноса нет ни одного человека на Земле. Каждый человек на вопрос: Кто ты? – ответит: русский, француз, перс, масаи и т.д., не задумавшись ни на минуту. Следовательно, этническая принадлежность в сознании – явление всеобщее.
Как таковой этнос, должен возникать, развиваться и пропадать вследствие изменений вмещающей его географической среды. Эта среда весьма подвижна. Мозаичная антропосфера, постоянно меняющаяся в историческом времени и взаимодействующая с ландшафтами планеты Земля, – есть особая сфера, которую целесообразно рассматривать как одну из оболочек Земли, но с обязательной поправкой на этнические различия. Таким образом, ученым вводится термин «этносфера». Этносфера, как и прочие географические явления, должна иметь свои закономерности развития, отличные от биологических и социальных.
В отличие от большинства млекопитающих человек существует в коллективе, который, в зависимости от угла зрения, рассматривается то как социум, то как этнос. Вернее сказать, каждый человек является одновременно и членом общества, и представителем народности, но оба эти понятия несоизмеримы и лежат в разных плоскостях.
Общественная форма движения материи стоит особо в силу присущей ей специфики – она свойственна лишь человечеству со всеми его проявлениями. Каждый человек и коллектив людей подвержен воздействию как общественной, так и природных форм движения материи, непрестанно меняющихся во времени (история) и пространстве (география). Это даёт основание рассматривать проблему в двух ракурсах – со стороны социальной и со стороны природной. В первом ракурсе можно увидеть общественные организации: племенные союзы, государства, политические партии, философские школы и т.п.; во втором – этносы, т.е. коллективы людей, возникающие и рассыпающиеся за относительно короткое время, но имеющие в каждом случае оригинальную структуру, неповторимый стереотип поведения и своеобразный ритм, имеющий в пределе гомеостаз.
Социальное развитие человечества хорошо изучено, и его закономерности сформулированы историческим материализмом.
Еще одним важнейшим положением теории этногенеза является открытие ученым аналогии, точнее тесной взаимосвязи и взаимовлияния между биосредой (лашафтом), этносоциосредой и техносферой.
Все народы Земли живут в ландшафтах за счет природы, но коль скоро ландшафты разнообразны, то сталь же разнообразны и народы. Они, подобно этносам, имеют свою динамику развития, свою историю. И когда ландшафт изменяется до неузнаваемости, причем безразлично – от воздействия ли человека, от изменения климата, от неотектонических процессов или от появления губительных микробов, несущих эпидемию, люди должны либо приспособиться к новым условиям, либо вымереть, либо уехать в другую страну. Оказавшись на новой местности, переселенцы в любом случае ищут условия, подобные тем, к которым они привыкли у себя на родине. Так, англичане охотно переселялись в страну с умеренным климатом, особенно в степи Северной Америки, Южной Африки и Австралии, где можно разводить овец. Испанцы колонизовали местности с сухим и жарким климатом, оставляя без внимания тропические леса. Якуты XI в. проникли в долину реки Лены и развели там лошадей, имитируя прежнюю жизнь на берегах Байкала, но они не посягали на водораздельные таежные массивы, предоставив их эвенкам. Русские землепроходцы в XVII в. прошли сквозь всю Сибирь, но заселяли только лесостепную окраину тайги и берега рек, т.е. ландшафты, сходные с теми, где сложились в этнос их предки.
Напрашивается предположение, что природные процессы: засухи или наводнения-сталь же губительны для природы региона, как и деятельность человека, вооруженного техникой своего времени. Оказывается не так! Природные процессы создают обратимые изменения. Например, неоднократная аридизация Великой степи в Евразии вызывала перемещение сухих степей и полупустынь на север и на юг от каменистой Гоби. Но последующая гумидизация вела к обратному процессу: пустыни зарастали степными травами, а леса надвигались на степи. А параллельно восстанавливались антропоценозы – кочевники вместе с овцами передвигались «за травой и водой».
А каковы же обратные процессы – трансформация природных ландшафтов в результате антропогенных воздействий человека? История антропогенных ландшафтов показывает: эти изменения в биосфере оказались не менее масштабными, напротив, они с течением времени накапливаются, и создают невиданную разрушительную силу.
Произведения рук человека, как из косного, так и из живого вещества (орудия, произведения искусства, домашние животные, культурные растения) выпадают из цикла конверсии биоценоза. Они могут лишь либо сохраняться, либо, ежели не законсервированы, разрушаться. В последнем случае они возвращаются в лоно природы. «Брошенный в поле меч, перержавев, превращается в окись железа. Разрушенный замок становится холмиком. Одичавшая собака делается диким зверем динго, а лошадь – мустангом». Это смерть вещей (техносферы) и обратный захват природой похищенного у нее материала. История древних цивилизаций показывает, что природа хотя и терпит урон от техники, но в конечном счете берет свое.
Как бы ни была развита техника, все необходимое для поддержания жизни люди получают из природы. Значит, они входят в трофическую цепь. А коль скоро так, то они являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя, наряду с людьми, домашние животные и культурные растения, ландшафты, как преобразованные человеком, так и девственные, богатства недр, а также взаимоотношения и динамика социального развития, включая элементы материальной и духовной культуры. Эту динамическую систему Л.Н.Гумилев называет этноценозом. «Она возникает и рассыпается в историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой деятельности, лишенные саморазвития и способные только разрушаться, и этнические реликты, достигшие фазы гомеостаза»[1].
Но каждый процесс этногенеза оставляет на теле земной поверхности неизгладимые следы, благодаря которым возможно установление общего характера закономерностей этнической истории. И теперь, когда спасение природы от разрушительных антропогенных воздействий стало главной проблемой науки, необходимо уяснить, какие стороны деятельности человека были губительны для ландшафтов, вмещающих этносы. Ведь разрушение природы с гибельными последствиями для людей – беда не только нашего времени, оно существовало во все времена, не всегда согласовываясь с уровнем развития культуры и цивилизации.
«В Великой степи за исторический период этногенез начинался трижды: в V-IV вв. до н.э. им были затронуты хунны; в V-VI вв. н.э. - тюрки и уйгуры; в XII в. - монголы, а рядом, в сунгарийской тайге, – маньчжуры. Все эти обновляемые этносы были потомками аборигенов, своих предшественников. Избыточную пассионарность (энергетику) они тратили не на изменение природы, ибо они любили свою страну, а на создание оригинальных политических систем: хуннской родовой державы, тюркского "Вечного Эля", Монгольского улуса, и на походы против Китая или Ирана» [1].
Все приведенные выше наблюдения и их обобщение позволяют отметить несовпадение социальных и этнических ритмов развития. Первое – это спонтанное непрерывное движение по спирали, второе – прерывистое, с постоянными вспышками, инерция которых затухает при сопротивлении среды. Хронологические социальные сдвиги – смены формаций и этногенетические процессы никак не совпадают. «Иногда этнос, как, например, русский, переживает две-три формации, а иногда создается и распадается внутри одной, как, например, парфяне или тюркюты. Общественное развитие человечества прогрессивно, этносы же обречены на исчезновение».
В какой степени предложенная концепция этногенеза соответствует теории диалектического и исторического материализма. Она соответствует ей полностью. Развитие общественных форм – спонтанно; смена общественно-экономических формаций – явление глобальное; движение общественной формы материи – поступательно и прогрессивное, по спирали.
Здесь представляется заслуживающим внимание концепция автора относительно европоцентристской идеи. Приступая к исследованию глобальных закономерностей этнической истории, следует сразу же отречься от принципа европоцентризма, который многими воспринимается как не требующий доказательств. «В самом деле, с XVI по начало XX в. европейские народы захватили полмира путем колониальных операций, а другую половину – путем ввоза товаров или идей. Преимущество европейцев над прочими народами было в XIX в. столь очевидно, что Гегель построил философию истории на принципе мирового прогресса, который должен был быть осуществлен германцами и англосаксами, ибо считал, что все обитатели Азии, Африки, аборигены Америки и Австралии – "неисторические народы". Но прошло только полтора века... и стало ясно, что европейское преобладание в мире – не путь прогресса, а эпизод. Америка и Австралия, как заокеанские продолжения Европы (Западной), непосредственно связаны с той же линией закономерности, а аналогичные линии уже прослежены у народов древних, где они дошли до своего естественного конца. Иными словами, те народы, которых принято называть отсталыми, просто реликты, пережившие свои расцвет и упадок. Можно сказать, что черные австралийцы, бушмены, мундруку и даже эскимосы – это старые этносы. Поэтому так бедна их материальная культура и так фрагментарна культура духовная. Этногенезы – процессы дискретные, а потому этносам свойственно понятие «возраст».
Так же как вне этноса, человеку плохо жить вне привычных ему природных условий, подогнанных предками под его потребности. Ученым были описаны механизм возникновения антропогенных ландшафтов и его связь с фазами этногенеза. Эта довольно жесткая связь также зависит от коллективного настроя этнической системы, образующей этноценоз, развитие которого сопряжено с уровнем пассионарного напряжения, а также с характером адаптации в ландшафте и наличием той или иной этнической доминанты.
С сегодняшних позиций неизмеримо возрастает значение «гумилевоведения» в исследовании проблем техносферы. Растет техносфера, т.е. количество нужных и ненужных зданий, изделий, памятников, утвари – разумеется, за счет природных ресурсов. Часть таких изменений – относительно безвредные искажения природы: арыки, поля монокультур, огромные стада рогатого скота. Оставленные без внимания, они возвращаются в естественные геобиоценозы. Однако большая часть продолжает служить покрытию поверхности планеты хламом, выведенным из цикла конверсии биоценозов.
Л.Н.Гумилев сопоставляя и соизмеряя результаты своих исследований с созвучными научными разработками В.И.Вернадского, в главном находит подтверждение правомерности.«… мы нашли ответ на вопрос, поставленный В.И.Вернадским, и вернулись к первому биогеохимическому принципу: «Биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению» [3]. Этого одного необходимо и достаточно для того, чтобы объяснить все процессы биосферы, в том числе этногенезы, как некое сложное и многообразное единство, принцип материалистического монизма» [1].
Совершенно обособленно стоит вытекающие из его многоплановых исследований трактовка «идеи евразийства». Именно Л.Н.Гумилевым в начале XXI века был дан новый импульс появившийся во второй половине XX века философско-политическому движению, выступающему за интеграцию России вместо европейской с центрально азиатскими странами. При этом евразийскую концепцию он дополняет собственными разработками на основе этногенеза. Для нас наибольшую важность имеют следующие: этнос и его стереотип поведения формируются в конкретных географо-климатических условиях и остаются устойчивыми длительный период времени, сравнимый со временем существования этноса; суперэтнические целостности формируются на основе обобщенного стереотипа поведения,
Электронное научное издание
«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (9), 2012, ст. 10
Выпуск подготовлен по итогам Второй Международной конференции по фундаментальным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» (29 и 30 октября 2012 г., проект РФФИ №12-06-06085-г). разделяемого представителями различных этносов единого суперэтноса; любой этнос представляет собой общность людей, объединенную некоторым стереотипом поведения.
Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, предлагая евразийство как модель для практической геополитики основывался на эти научные положения. Как показывает время и это оказалось вполне жизнеспособным и важным решением современных проблем [4].
Глобальная концепция устойчивого развития и реальность мира все большей степени подтверждают научные выводы о всеобщей взаимосвязи и взаимозависимости всех окружающих человека сред обитания: биосферы, социосферы, этносферы, техносферы [5]. В этом свое историческое место научного гения Льва Николаевича Гумилева, 100-летие которого в этом году отмечается благодарным сообществом.
Список литературы Лев Гумилев: историко-социальные пласты биосферы
- Гумилёв, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - СПб: Кристалл, 2001. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5306001572>.
- Калесник, С.В. Проблемы географической среды//Вестник ЛГУ: вып. №12. - 1968.
- Вернадский, В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - М., 1965. - с. 283 - 285.
- Назарбаев, Н.А. Европейский Союз: от идеи к истории будущего/Известия от 25 октября 2011.
- Кузнецов, О.Л., Кузнецов, П.Г., Большаков, Б.Е. Система природа - общество - человек: устойчивое развитие. - М.: Ноосфера, 2000.
- EDN: TKHIFP