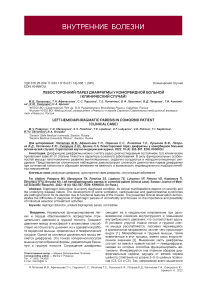Левосторонний парез диафрагмы у коморбидной больной (клинический случай)
Автор: Потапова M.B., Афанасьева Т.Н., Паршина С.С., Липатова Т.Е., Лукьянов В.Ф., Петрова В.Д., Капланова Т.И., Скворцов К.Ю., Брояка Н.А.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Внутренние болезни
Статья в выпуске: 4 т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Дисфункцию диафрагмы можно считать редко диагностируемым состоянием. Его клинические проявления зависят от степени тяжести и характера основного заболевания. В силу функциональных особенностей мышцы патогномонично развитие вентиляционных, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных синдромов. Представленное клиническое наблюдение демонстрирует сложности диагностики пареза диафрагмы при сочетанной патологии и обращает внимание на важность и возможность индивидуального подбора лечебных мероприятий.
Дисфункция диафрагмы, односторонний парез диафрагмы, сопутствующие заболевания
Короткий адрес: https://sciup.org/149142941
IDR: 149142941 | УДК: 616.26-009.11-034.1:616-031.14]-036.1
Текст научной статьи Левосторонний парез диафрагмы у коморбидной больной (клинический случай)
Corresponding author — Marina V. Potapova
Тел.: +7 (963) 1143655
Брояка Н. А., 2022
пласта при параличе одного диафрагмального нерва поддерживается активностью нерва контралатеральной половины [3]. Важен и тот факт, что сокращение мышечных волокон реберного, грудинного и поясничного отделов диафрагмы по-разному участвуют в регуляции размеров грудной клетки в зависимости от фазы дыхания. В этом заключается суть концепции «двух диафрагм» как функционально независимых мышц.
Дискоординация процессов мышечного сокращения и расслабления чаще всего упоминается в контексте поражения диафрагмального нерва. Дисфункция диафрагмы может быть следствием дефекта любого участка пути нервного импульса — от уровня спинного мозга через диафрагмальный нерв к нервно-мышечным соединениям и к диафрагме [4, 5]. И наоборот, вторичные изменения структурно-функционального состояния диафрагмы могут развиваться при хронической патологии дыхательной системы — хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме [1, 3]. Идиопатической формой заболевания следует считать клинико-инструментальные признаки дисфункции диафрагмы при исключении иных возможных первопричин.
Частным проявлением мышечной патологии является парез и паралич диафрагмы. Несмотря на то, что термин «парез» подразумевает только снижение силы мышц, часто временное, а термин «паралич» — полное отсутствие мышечных сокращений, в литературе встречается и то и другое обозначение дисфункции диафрагмы. Принципиально подразделение на двустороннее (билатеральное) поражение и одностороннее (унилатеральное), что отражает тяжесть клинических проявлений. В некоторых источниках можно встретить термин «релаксация диафрагмы» как факт обнаружения высокого ее расположения при рентгенологическом исследовании.
Этиология. Основу заболевания составляет нарушение сокращения мышечных волокон диафрагмы. Это приводит к релаксации ее купола, который смещается кверху положительным давлением органов брюшной полости, что приводит к сдавлению и дислокации органов грудной полости. Здесь принципиально различать изменения при наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и ее парезе. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы характеризуется перемещением органов брюшной полости через дефект или расширенное естественное отверстие диафрагмы с возможным их ущемлением. При релаксации имеется истончение мышечной части органа при отсутствии грыжевых ворот, что, однако, может служить предпосылкой для развития вторичной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Вовлекаться может не только прилежащий к диафрагме желудок, но и кишечник (толстая кишка, реже — тонкая), а также селезенка. Желудок при этом большой кривизной ротируется кверху, прилегая к диафрагме. В отличие от изменений, происходящих при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, ущемления органов не происходит.
Состояния, способствующие поражению диафрагмального нерва, в литературе подразделяются на следующие: поражения спинного мозга (повреждение выше уровня позвонка C5, рассеянный склероз); болезни моторных нейронов — полиомиелит, боковой амиотрофический склероз, спинальная мышечная атрофия; поражения нервных корешков шейного отдела вследствие выраженного спондилеза, вирусной инфекции ( Herpes zoster , ВИЧ и COVID-19);
поражение диафрагмальных нервов при полинейропатии Гийена — Барре, вследствие действия столбнячного антитоксина, как результат полинейропатии Шарко — Мари — Тута, амиотрофии, травмы (в том числе открытой холодовой), пневмонии или плеврита, опухолевой инвазии, абсцессах печени, паранео-пластического синдрома, хронической обструктивной болезни легких, гипотиреоза и неклассифицируемой диафрагмальной нейропатии, электролитных нарушений; первичное поражение диафрагмы как следствие проксимальной мышечной дистрофии, дефицита кислой мальтазы, системной красной волчанки, смешанных болезней соединительной ткани, дерматомиозита, системного склероза, отложения амилоида [1, 3, 4, 7, 8].
Правосторонней локализации процесса способствует слабость мышечных волокон в области задней поверхности грудины. Несмотря на то, что слева этот участок прикрыт париетальным листком перикарда и верхушкой сердца, по данным некоторых авторов, именно левосторонняя релаксация купола диафрагмы являлась частой рентгенологической находкой у бессимптомных лиц [3].
Клинические проявления . Выделяют три основных синдрома дисфункции диафрагмы — дыхательный, сердечно-сосудистый и пищеварительный. Диспноэ может проявляться как незначительной одышкой при физической нагрузке и/или изменении положения тела, так и выраженным чувством нехватки воздуха вплоть до ортопноэ. Возможно возникновение сухого кашля. И одышка, и кашель обусловлены выключением части диафрагмы из акта дыхания и компрессией легочной ткани. Характерным провокатором респираторных симптомов является прием пищи. Односторонний процесс не приводит к значимым дыхательным нарушениям, в отличие от билатерального пареза, влекущего за собой явное диспноэ [4, 6]. При наличии признаков выраженной дыхательной недостаточности в первую очередь необходимо исключать такие жизнеугрожающие состояния, как острую левожелудочковую недостаточность, тромбоэмболию легочной артерии или пневмоторакс. Бессимптомные варианты, наоборот, выявляются случайно. В обоих случаях основное заболевание может оставаться нераспознанным.
Сердечно-сосудистый синдром обусловлен смещением и/или ротацией сердца приподнятым куполом диафрагмы. Возможно возникновение учащенного сердцебиения, аритмий, ангинозных болей или изменения конфигурации сердца.
Диагностика. В первую очередь основывается на оценке жалоб и анамнеза жизни и заболевания. Принимаются во внимание данные физикального осмотра, выявляющие все изменения со стороны органов и систем, которые могут быть первопричиной развития данного симптомокомплекса. При одностороннем парезе физикально может определяться асимметрия движения передней брюшной стенки или снижение экспансии соответствующего реберного угла во время глубокого вдоха. В ряде случаев визуально может определяться парадоксальное движение брюшной стенки как результат пассивной передачи отрицательного плеврального давления другими инспираторными мышцами. Этот признак может присутствовать как при одно-, так и при двустороннем поражении. Пальпация брюшной стенки может обнаруживать активное сокращение абдоминальных мышц [3].
Оценка функции диафрагмы основана на определении экскурсии и изменения ее толщины при дыхании. Для этого применяется широкий круг методик.
Инструментальные методы. Спирометрия дает представление о функции внешнего дыхания. Легочные функциональные тесты выявляют рестриктивные нарушения и снижение максимального давления вдоха, что подтверждает слабость мышц [4, 8].
Лучевые методы диагностики. Рентгенологическое исследование является решающим при выявлении релаксации купола диафрагмы. Основными рентген-признаками являются стойкое повышение уровня расположения соответствующего купола диафрагмы до II-V ребер, смещение диафрагмы и прилежащих к ней органов брюшной полости кверху в горизонтальном положении, представление контура диафрагмы в виде непрерывной дугообразной линии. При этом могут выявляться смещение органов средостения, в том числе и сердца, а также изменения со стороны легких и плевры (ателектаз или первичные объемные изменения, компрессия легкого и сближение легочного рисунка) [11]. Как компьютерная, так и магнитно-резонансная томография выполняется с целью оценки толщины листков диафрагмы и высоты ее купола.
Альтернативу лучевым методам диагностики составляет ультразвуковое исследование. С его помощью возможна оценка толщины мышечного пласта в зависимости от акта дыхания [1].
Измерение объема и давления. Диапазон смещения грудной клетки и брюшной полости может быть определен при проведении магнетометрии или плетизмографии, а также баллонных эндоскопических методик, что лимитировано их малой доступностью и инвазивностью [3].
Электрофизиологические методики. Разграничить неврологический и миопатический варианты заболевания помогает электромиография как со стороны поверхности тела (в надключичной ямке), так и со стороны пищевода [8].
Таким образом, парез диафрагмы можно считать редко диагностируемой патологией в силу недооценки анамнеза, физикальных данных, ряда рентгенологических феноменов и ограниченных возможностей для электрофизиологического исследования.
Цель — демонстрация клинического наблюдения левостороннего пареза диафрагмы с клинической картиной сердечно-легочной недостаточности и дисфункции желудочно-кишечного тракта.
Получено информированное согласие пациента на публикацию данных из истории болезни.
Описание клинического случая. Пациентка Ч. 48 лет проходила обследование и лечение в кардиологическом отделении ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12» (ныне ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер») в 2018 г На момент госпитализации больная предъявляла жалобы на одышку смешанного характера при незначительной нагрузке, приступы сердцебиения и перебоев в работе сердца, общую слабость, а также дискомфорт в подложечной области после приема пищи и частую изжогу. Подобные явления беспокоили пациентку примерно 3 мес. и усилились 2 нед. тому назад, что и послужило поводом к обращению за медицинской помощью. В течение 3–4 лет отмечала повышение цифр артериального давления (АД) до 160 и 90 мм рт. ст. без постоянного медикаментозного контроля. Иных поводов для постоянного врачебного наблюдения не отмечала. В анамнезе — указания на тяжелый физический труд (работала машинистом). При объективном осмотре на момент поступления состояние расценивалось как среднетяжелое за счет явлений сердечной недостаточности. Активна. Одышка смешанного характера наблюдалась при разговоре и усиливалась в положении лежа. Телосложение гиперстеническое. Признаки морбидного ожирения с индексом массы тела (ИМТ) 41,5 кг/м2. Определялась пастозность стоп. Область щитовидной железы, молочные железы и доступные пальпации периферические лимфоузлы — без особенностей. Грудная клетка визуально без особенностей. При перкуссии отмечалось притупление легочного звука ниже III ребра по передней, средней и задней подмышечным линиям слева и ниже угла левой лопатки по лопаточной линии. Определялось смещение нижней границы левого легкого кверху до III ребра по подмышечным линиям при нормальных границах правого легкого. Аускультативно — выражены ослабление дыхания ниже угла лопатки слева и урчание, влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких справа. Частота дыхательных движений — 22 в мин.
Область сердца визуально не изменена. Перку-торно границы относительной тупости сердца: правая — в IV межреберье на 2,5 см кнаружи от правого края грудины, левая — в V межреберье на 3,5см кнутри от левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, акцент II тона на легочной артерии. Пульс аритмичный. Частота сердечных сокращений
120 в мин, дефицит пульса — 20. Артериальное давление 140 и 80 мм рт. ст.
Живот при осмотре симметричный, участвует в акте дыхания. Поверхностная пальпация его безболезненна. Перкуторно печень нормальных размеров.
При проведении лабораторных исследований (общих анализов крови и мочи, коагулограммы) изменений не было выявлено. В биохимическом анализе крови отмечалась гипергликемия натощак 5,9– 6,2 мкмоль/л, гликированный гемоглобин — 6,8%.
Выполнение общеклинических инструментальных исследований было сопряжено с техническими трудностями и погрешностями по причине выраженного избытка веса. Обращали внимание на следующие полученные результаты:
ЭКГ-признаки фибрилляции предсердий с частотой сердечных сокращений 110–170 в мин, смещение электрической оси сердца влево. При суточном мониторировании электрокардиографии — фибрилляция предсердий с максимальной частотой сердечных сокращений в дневные часы 88 уд./мин, ночью — 71 уд./мин. За время мониторирования зафиксировано 254 одиночных желудочковых экстрасистол (11 в час) без патологической динамики по сегменту ST.
Результаты рентгенографии органов грудной полости: в легких изменений очагового и инфильтративного характера не выявлено. Легочный рисунок в наддиафрагмальных отделах правого легкого сгущен. Высокое стояние левого купола диафрагмы (расположен на уровне переднего отрезка III ребра), вследствие чего левый корень легкого представляется бесструктурным. Правый купол расположен обычно. Синусы плевры свободны. Размеры сердца умеренно увеличены. Заключение: высокое стояние левого купола диафрагмы.
Выявлены признаки декстрапозиции сердца при допплер-эхокардиографии: сердце смещено вправо, левосформированное. При этом отмечается выраженная дилатация левого предсердия (конечно-систолический размер — 4,6 см, конечно-систолический объем — 77 мл), небольшая дилатация полости левого желудочка (конечно-диастолический размер — 5,4 см, конечно-систолический размер — 3,9 см), небольшая дилатация полости правого желудочка (конечно-диастолический размер — 3,5 см), признаки легочной гипертензии (давление в легочной артерии 37 мм рт. ст.), фракция выброса составляла 54%.
Проведение спирометрии выявило снижение вентиляционной функции легких, преимущественно по рестриктивному типу: жизненная емкость легких составляла 57% от должного, форсированная жизненная емкость легких — 57%, объем форсированного выдоха за 1-ю сек — 63%, объем форсированного выдоха за 1-ю сек/жизненная емкость легких — 94,9%, бронходилатационная проба отрицательная.
В неврологическом статусе — без особенностей.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек: признаки диффузных изменений печени и поджелудочной железы, в забрюшинном пространстве патологические образования не визуализируются. Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез, органов малого таза: без патологии.
По результатам исследования уровня гормонов щитовидной железы исключена ее дисфункция.
С учетом явлений сердечной недостаточности на фоне артериальной гипертензии и постоянной формы фибрилляции предсердий назначенная медикаментозная терапия включала кардиотоники и β-адреноблокаторы, диуретики, ингибиторы ангио-тензинпревращающего фермента, пероральные антикоагулянты (дабигатрана этексилата 300 мг/сут.). С целью урежения частоты сердечных сокращений пациентка получала сердечные гликозиды (дигоксин 0,25мг/сут.) и селективные в-адреноблокаторы с учетом наличия сахарного диабета (небиволол). Совместно с эндокринологом назначена сахароснижающая терапия (метформин, дапаглифлозин). Терапия гастроинтестинальных нарушений проводилась прокинетиками, ингибитором протонной помпы и антацидами (домперидоном, омепразолом и алгел-дратом + магния гидроксидом).
На фоне медикаментозной терапии достигнута стабилизация цифр артериального давления на уровне 120 и 80 мм рт. ст., урежение частоты сердечных сокращений (максимальная частота в покое составила 100 уд./мин). Показатели гликемии натощак и гликированный гемоглобин находились в пределах нормы за период лечения. Принимая во внимание выраженное ожирение, пациентке было настоятельно рекомендовано снизить вес путем изменения рациона питания. Проведена беседа и назначена индивидуальная диета. Показано амбулаторное проведение компьютерной томографии органов грудной полости после нормализации веса с последующей консультацией торакального хирурга для решения вопроса о возможности оперативного лечения дисфункции диафрагмы. Назначена гимнастика для тренировки вспомогательной дыхательной мускулатуры.
Подобная клиническая ситуация представляет собой типичный случай коморбидных состояний, когда сложно определить ведущий патогенетический фактор. Не всегда возможно сразу установить и этиологию заболевания. В данном случае мы вынуждены были трактовать выявленные изменения как идиопатическую форму пареза диафрагмы, рекомендуя дообследование: проведение компьютерной томографии грудной и брюшной полостей, серологическое исследование на Herpes zoster , консультацию торакального хирурга.
Главной целью лечения при дисфункции диафрагмы является поддержание адекватной вентиляции легких [3, 4]. Для нашей пациентки снижение веса и оптимизация рациона питания могут быть если не радикальным, то весомым вкладом в нивелирование большинства симптомов — от механической декомпрессии органов до стабилизации биохимических показателей и цифр артериального давления. В последующем это даст возможность повторно оценить состояние диафрагмы и определить дальнейшую тактику ведения больной. Обязательны тренировка вспомогательной дыхательной мускулатуры и выполнение посильной физической активности пациентом (пешая ходьба).
Заключение . Сердечно-легочные симптомы и дисфункция желудочно-кишечного тракта типичны для изолированной патологии диафрагмы. В нашем случае парез диафрагмы диагностирован в сочетании с осложненной артериальной гипертензией, аритмией и морбидным ожирением. Диспноэ у пациентки носит сложный генез.
В условиях отсутствия высокотехнологичных методов диагностики своевременное установление этиологии заболевания не представляется возможным. Можно лишь только предполагать единую патогенетическую связь указанных состояний.
Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует трудности определения патогномоничных синдромов из-за наличия сопутствующих заболеваний. Решающее прогностическое значение в данных условиях коморбидности имеет снижение массы тела пациента и динамический контроль за состоянием больного.
Список литературы Левосторонний парез диафрагмы у коморбидной больной (клинический случай)
- Nekljudova GV, Avdeev SN. Possibilities of ultrasound research of the diaphragm. Therapeutic Archive. 2019; 91 (3): 86–92. (In Russ.) Неклюдова Г. В., Авдеев С. Н. Возможности ультразвукового исследования диафрагмы. Терапевтический архив. 2019; 91 (3): 86–92. DOI: 10.26442 / 00403660.2019.03.000129.
- Prives MG, Lysenkov NK, Bushkovich VI. Human anatomy. St. Petersburg: Publishing house SPbMAPO, 2006; 720 p. (In Russ.) Привес М. Г., Лысенков Н. К., Бушкович В. И. Анатомия человека. СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2006; 720 с.
- Gibson G. Diaphragmatic paresis: pathophysiology, clinical features, and investigation. Thorax. 1989; 44 (11): 960–70. DOI:10.1136 / thx.44.11.960.
- Couto C, Pereira P, Moreira A, et al. Bilateral isolated phrenic neuropathy: a rare cause of dyspnoea. Eur J Case Rep Intern Med. 2020; 7 (2): 001258. DOI: 10.12890 / 2020_001258.
- Coirault C, Chemla D, Lecarpentier Y. Relaxation of diaphragm muscle. J Appl Physiol. 1999; 87 (4): 1243–52. DOI: 10.1152 / jappl.1999.87.4.1243.
- Hajatova ZG, Bogdanov JeI, Anisimov VI, et al. Bilateral idiopathic phrenic neuropathy: a clinical observation and review of literature. Neurology Bulletin. 2016; XLVIII (2): 51–6. (In Russ.) Хаятова З. Г., Богданов Э. И., Анисимов В. И. и др. Идиопатическое двустороннее поражение диафрагмального нерва: представление клинического наблюдения и обзор литературы. Неврологический вестник. 2016; XLVIII (2): 51–6.
- Sharova NV, Cherkashin DV, Makiev RG, et al. Dyspnoea in general medicine: diaphragm paresis in a patient with bronchial asthma. Doctor. Ru 2021; 20 (11): 77–81. (In Russ.) Шарова Н. В., Черкашин Д. В., Макиев Р. Г. и др. Одышка в практике терапевта: развитие пареза диафрагмы у больного бронхиальной астмой. Доктор.Ру. 2021; 20 (11): 77–81. DOI: 10.3155 0 / 1727‑2378‑2021‑20‑11‑77‑81.
- Meysman M, Droogmans S. Orthopnea and pulmonary hypertension. Treat the underlying disease. Respir Med Case Rep 2018; 24: 105–7. DOI:10.1016 / j.rmcr.2018.05.004
- Grigovich IN, Pyattoev YuG, Husu EP. Rare forms of impassability of digestive tract at children. Gastric volvulus. In: Obstruction of the gastrointestinal tract in children: National clinical guidelines. Moscow: GEOTAR-Media; 2017; p. 584–7. (In Russ.) Григович И. Н., Пяттоев Ю. Г., Хусу Э. П. Редкие формы непроходимости желудочно-кишечного тракта у детей. Заворот желудка. В кн: Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей: нац. руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2017; с. 584–7.
- Boopathy V, Balasubramanian P. Chronic gastric volvulus — diagnosed on endoscopy. J Clin Diagn Res. 2017; 11 (8): PJ01. DOI: 10.7860 / JCDR / 2017.28547.10392.
- Sotnichenko BA, Salienko SV, Sotnichenko AB. Diagnosis and treatment of traumatic strangulated diaphragmatic hernials. Russian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgary. 2006; (4): 67–71. (In Russ.) Сотниченко Б. А., Салиенко С. В., Сотниченко А. Б. Диагностика и лечение травматических ущемленных диафрагмальных грыж. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2006; (4): 67–71.
- Sotnichenko BA, Makarov VI, Kalinin OB, et al. Errors in diagnosis and surgical strategy in ruptures of the diaphragm. Grekovʼs Bulletin of Surgery. 2008; (3): 19–23. (In Russ.) Сотниченко Б. А., Макаров В. И. Калинин О. Б. и др. Ошибки диагностики и хирургической тактики при разрывах диафрагмы. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2008; (3): 19–23.