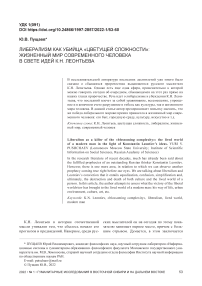Либерализм как убийца "цветущей сложности": жизненный мир современного человека в свете идей К.Н. Леонтьева
Автор: Пущаев Ю.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Константин Леонтьев: Цветущая сложность. К 190-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В исследовательской литературе последних десятилетий уже много было сказано о сбывшихся пророчествах выдающегося русского мыслителя К.Н. Леонтьева. Однако есть еще одна сфера, применительно к которой можно говорить сегодня об очередном, сбывающемся на этот раз прямо на наших глазах пророчестве. Речь идет о либерализме и убеждении К.Н. Леонтьева, что последний влечет за собой уравнивание, всесмешение, упрощение и в конечном счете разрушение и гибель как культуры, так и жизненного мира человека. В данной статье автор предпринимает попытку оценить, что же победа либерального мировоззрения привнесла в жизненный мир современного человека: его быт, городскую среду, культуру, искусство и т.д.
К.н. леонтьев, цветущая сложность, либерализм, жизненный мир, современный человек
Короткий адрес: https://sciup.org/170195079
IDR: 170195079 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-1/53-60
Текст научной статьи Либерализм как убийца "цветущей сложности": жизненный мир современного человека в свете идей К.Н. Леонтьева
К.Н. Леонтьев в истории отечественной мысли уникален тем, что сбылось немало его прогнозов и предвидений. Наверное, среди рус- ских мыслителей он на сегодня по этому показателю занимает первое место, причем с большим отрывом. Думается, в этом заключается одна из основных причин начавшегося с конца 1980-х гг. некоего «леонтьевского бума» – того, что на контрасте с его прижизненной малоиз-вестностью Леонтьев теперь является одним из самых читаемых и обсуждаемых авторов в истории русской философии. Кстати, одна из первых книг, посвященных Леонтьеву после долгих лет принудительного забвения при советской власти, вышедшая в 1991 г., неслучайно так и называлась – «Пророчества Константина Леонтьева» [4]. Мыслитель с такой, условно говоря, прогностической эффективностью не мог не заинтересовать потомков.
Говорить о неожиданно сбывшихся или сбывающихся пророчествах К.Н. Леонтьева стали уже вскоре после Октябрьской революции. Умирающий от голода и холода в Сергиевом Посаде Розанов писал в октябре 1918 г. полные отчаяния строки о том, что сбылись ужасные предупреждения Леонтьева насчет социализма: «Бури. Лом леса. Павшее дорогое отечество. Плач, плач, стоны. Все (курсив мой. – прим. авт. ), что так предрекал Леонтьев, сбылось. Сбылось еще ужаснее, чем он говорил. Старуха беззубая – Россия. О, как ты ужасна, ведьма, ведьма, со всклоченными волосами... И эти фурии наказаний, казни. Кассандра. Леонтьев – Кассандра, бегавшая по Трое и предрекавшая... (всего за 15 лет). И как ее же, его никто не услышал. А было всего за 25 лет до пожара “Трои”, – европейской всей цивилизации, – и введен был огонь, прошедшими в город через “деревянного коня” социализма... с мирными обещаниями “на земле царства небесного”» [2, с. 58–59].
А к концу ХХ в., на волне начавшегося «леонтьевского бума» указывать на сбывшиеся пророчества «одинокого мыслителя» стало даже в чем-то модно. То, что прежде казалось леонтьевскими странностями и эскападами, его любовью к парадоксам, вдруг приобрело ощутимую неприятную реалистичность.
Леонтьев, например, предсказывал и уверял, вопреки господствовавшим тогда симпатиям к «братьям-славянам», что панславянское братство и единство – это миф, мираж, иллюзия. Сам оставаясь горячим патриотом России, он все-таки ясно видел, что народы Восточной Европы уже тогда в лице своей интеллигенции (а народ рано или поздно все равно пойдет за интеллигенцией, а не наоборот1) необратимо поддались обуржуазиванию. Они уже тогда необратимо встроились в хвост «передовой» Западной Европе с ее уравнивающим, как асфальтный каток, прогрессом, либерализмом и демократией. Прозорливость Леонтьева в этом вопросе получила свое печальное окончательное доказательство сегодня, когда уже практически вся Восточная Европа (даже те страны, за освобождение которых Россия платила сотнями тысяч жизней) безоглядно вступила в НАТО.
Леонтьев, как мы уже указали со ссылкой на Розанова, предсказал, что ХХ в. станет веком социалистического рабства: «Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, – вероятно, в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм – феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных. Я говорю из вежливости, что подозреваю это; в самом же деле я в этом уверен, я готов пророчествовать это» [8, с. 132].
Удивительно, но Леонтьев угадал и то, какую негативную роль в отношении исторической России сыграет философия в лице гегелья-низированного марксизма. В одном из писем Розанову он замечал: «Я опасаюсь для будуще-
России и который был уверен, что народ победит атеизм и социализм, проникшие в высшие слои общества. См. классические пророчества старца Зоси-мы из «Братьев Карамазовых». Первое – о победе над атеизмом: «От народа спасение Руси... Неверующий деятель у нас в России ничего не сделает... Народ встретит атеиста и поборет его» [3, c. 285]. А что касается социализма, то в России в противоположность Европе, по ожиданиям Достоевского, должна была воцариться социальная гармония: «Даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение его, поймет и уступит ему с радостью, и лаской ответит на благолепный стыд его» [3, c. 286]. Надо сказать, что Леонтьев был гораздо более реалистичен, когда предупреждал насчет русского народа, что может статься так, что «через какие-нибудь полвека, не более, он из народа “богоносца” станет мало-помалу, и сам того не замечая, “народом-богоборцем”, и даже скорее всякого другого народа, быть может. Ибо, действительно, он способен во всем доходить до крайностей... Евреи были гораздо более нас, в свое время, избранным народом, ибо они тогда были одни во всем мире, веровавшие в Единого Бога, и, однако, они же распяли на кресте Христа, Сына Божия, когда Он сошел к ним на землю» [5, с. 458].
го России чистой оригинальной и гениальной философии. Она может быть полезна только как пособница богословия. Лучше десять новых мистических сект вроде скопцов и т.д., чем пять новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т.п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, – это начало конца» [2, с. 258]. Любопытно, что хотя и можно вполне обоснованно спорить насчет того, насколько официальная советская философия в лице диалектического и исторического материализма была хорошей философской системой, но в своих прямых предшественниках марксизм-ленинизм числил философии и Фихте, и Гегеля, которых или подобных которым как раз и опасался Леонтьев для будущего России.
Впрочем, в имеющейся исследовательской литературе на самом деле уже много писали о сбывшихся предсказаниях Леонтьева и относительно мифа о панславянском братстве, и о будущем социализма. Однако, как мне кажется, есть еще одна сфера, применительно к которой можно говорить сегодня об очередном, сбывающемся на этот раз прямо на наших глазах пророчестве К.Н. Леонтьева. Я имею в виду его убеждение, что либерализм влечет за собой уравнивание, всесмешение, упрощение и в конечном счете разрушение и гибель как культуры, так и жизненного мира человека в целом, что он убивает его «цветущую сложность».
Давайте попытаемся понять, в каком мире и в какой культуре мы сегодня живем с точки зрения, во-первых, их красоты и эстетичности, и, во-вторых, его «цветущей сложности», т.е. такой сложности, которая имеет благотворный для человека и развивающий его личность характер. Для этого надо для начала просто оглянуться вокруг себя и попытаться непредвзятыми (хорошими) глазами посмотреть на то, что нас окружает в нашем быту и в нашей культуре. Позволительно назвать это некой феноменологической попыткой – попытка непредвзято увидеть и описать то, что нас окружает и в чем мы живем, наш жизненный мир. Несколько переиначивая слова А.Ф. Лосева, который говорил, что диалектика – это просто хорошие глаза, скажем, что то, что мы назвали здесь феноменологией, – это просто хорошие глаза. Кстати, ведь и сам Константин Николаевич был не чужд феноменологической, описательной методы. Недаром о. Иосиф Фудель сказал про Леонтьева, что он был художник мысли: «Он не публицист в прямом смысле этого слова, ни тем менее философ; напрасно мы стали бы искать в его сочинениях какой-либо системы, облегчающей понимание, или точно выраженных посылок, объясняющих неожиданный вывод. К. Леонтьев есть прежде всего художник мысли, как он сам часто любил называть себя. Он мыслит образами, и яркие картины, которые могли бы служить хорошей иллюстрацией доказанной мысли, очень часто заменяют ему всякие логические доказательства» [11, с. 160].
Мыслить образами – не мыслить ли эйдо-сами, по-гуссерлевски? Ведь первое значение греческих слов «идея» и «эйдос» и есть внешний вид, образ вещи. Ведь и Платон с его художественно-философскими диалогами был великим художником мысли .
И правда, сам Леонтьев говорил порой, что он довольствуется иногда лишь описанием того, что видит, не рискуя при этом рассуждать о причинах описываемого. Так, в «Национальной политике как орудии всемирной революции» он сначала констатирует: «Ясно вот что: “Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации”. У многих вождей и участников этих движений ХIХ века цели действительно были национальные, обособляющие, иногда даже культурно-своеобразные, но результат до сих пор был у всех и везде один – космополитический» [6, с. 500]. И тут же добавляет: «Почему это так, не берусь еще сообразить...» [6, с. 500].
* * *
ХХ век был веком грандиозного столкновения между собой трех ведущих идеологий: коммунизма, либерализма и фашизма. Они породили и множество промежуточных идеологических течений, но в целом три этих идейных направления были главными соперниками и матрицами, порождавшими идейно-политические и социально-экономические смыслы. К концу ХХ в. определился победитель этой битвы – либерализм. Он оказался наиболее гибким и отвечающим потребностям секуляризованного человечества, победившим потому, что он в рамках закона дает простор склонностям человеческой натуры, предоставленной самой себе: освободившейся от религии, хотя и пока еще несущей в себе ее остаточный свет.
Сегодня ситуация такова, что, несмотря на все соперничество на международной арене разных держав и центров сил, на все более усиливающуюся политическую полицентричность мира, либерализму как идеологии нет внятной альтернативы. Разве есть сейчас, например, какие-то идеологические принципы, которые в теории и политической практике, в идеологических спорах успешно противопоставляют принципам демократии или прав человека? Или принципу верховенства обезличенного закона? Или принципу выборности власти? Спорят разве что о том, как правильно интерпретировать демократию, в какой стране она настоящая, а в какой – поддельная, сфальсифицированная и манипулируемая, и где действительно соблюдаются права человека, а где – нет.
Сегодняшний мир – его общественно-политическое устройство в подавляющем большинстве стран, его экономика, его культура, его быт и внешний облик – испытывает всепроникающее действие либерализма, либеральных принципов. Он все больше и больше формируется и унифицируется по либеральным канонам, причем каким-то естественным образом, как бы сам по себе. Как отмечал Александр Дугин, либерализм при этом перешел с уровня идей, политических программ и деклараций на уровень вещей, войдя в плоть социальной реальности, которая стала либеральной, но не политически, а бытовым, каким-то «естественным» образом. Даже противники либерализма живут во многом уже в необратимо либеральном обществе, либеральной среде, и сами являются полусознательными или бессознательными либералами.
* * *
Итак, насколько в сегодняшнем мире, в мире побеждающего либерализма (если все же брать главенствующие, глобальные тенденции, а не пока еще остающиеся «островки сопротивления» им), оправдалась идея-прогноз Леонтьева о том, что эта победа означает усреднение и гомогенизацию, наступающее однообразие общества и культуры? Индивидуализм как политический и общественный принцип губит индивидуальность, говорил Леонтьев, культурное и человеческое разнообразие. На место цветущей сложности в результате всесмешения все больше и больше заступает однообразие и упрощение. Они, с точки зрения теории Леонтьева о трех стадиях развития, сигнализируют о том, что данная цивилизация находится в преддверии своей гибели.
Здесь надо предварительно подчеркнуть, что Леонтьев всегда настаивал на принципиальном различении понятий прогресса (его общепринятого понимания) и развития. Развитие – это не просто движение и выступание вперед (что дословно значит латинское слово «progressus»), и только поэтому оно хорошо и оправданно. Ведь вперед можно двигаться и к пропасти, обрыву и катастрофе. Также развитие – это не количественный рост в каких-то отдельных сферах или по отдельным параметрам, потому что он может происходить за счет остального целого. Развитие – это рост и увеличение разнообразия в гармоническом единстве. Развивается и расцветает то бытийное целое, тот бытийный организм, в котором в рамках его единства появляется все больше новых типов и лиц, проявляется все больше сил и тенденций, который становится поэтому все интереснее (inter-esse в латинском языке означает «иметь разницу», «отличаться»).
Можно сказать, что мы живем в эпоху бурного количественного роста в отдельных областях социума и нашего жизненного мира, при прогрессирующем сворачивании общественного и жизненного разнообразия. Какие общественные, общественно-экономические и иные тенденции порождают гомогенизацию былого разнообразия?
-
1) Бурный рост и быстрота сообщений (транспортных, коммуникационных и т.д.) сближают ранее далекое и способствуют смешению и уподоблению тех «вещей», индивидуальность которых ранее хранило пространственное и иное отстояние друг от друга. С этой точки зрения не знаешь, например, радоваться или огорчаться скоростным поездам – пригородным и междугородным. Конечно, передвигаться ими удобно и комфортно, но они убивают феномен дороги, путешествия. Перенося туда и обратно потоки людей и вещей с огромной скоростью, они способствуют возрастающему как бы комфортному однообразию мира.
-
2) Интернет как бездонный и неисчерпаемый резервуар самой разной информации. Здесь любому субъекту дается слово и возможность представления, а информация не контролируется единым центром или системой цензуры. Тем самым Интернет способствует уравниванию любых культурных и общественных иерархий, подрыву самого понятия и феномена авторитета – культурного, общественного, политического и т.д.
-
3) Преимущественная ориентация на коммерческую выгоду порождает гигантское распространение сетевых предприятий в сфере обслуживания: кафе, магазинов и т.д. Малые магазины и кафе в центрах городов все больше вытесняются сетевыми супермаркетами и кафе со стандартными наборами продуктов и блюд. Сетевые продовольственные магазины стремятся воплотить собой победу над пространством и временем: в любое время года, независимо от сезона, в них продаются в изобилии одни и те же продукты, свезенные из разных частей мира. Несезонность того или иного продукта может выражаться лишь его повышенной ценой.
И с этим невозможно бороться, это такой же неумолимый процесс, потому что этого требует логика глобального либерального капитализма. Само стремление к комфортной и обеспеченной жизни, к тому, чтобы предоставить ее как можно большему количеству людей (вроде морально благородное и оправданное) порождает стандартизированное производство и потребление.
За всем этим стоят общественно-индивидуальные страсти: жадное стремление как можно больше видеть и говорить, потреблять продуктов и информации. Задача соответствовать грандиозному количественному росту потребностей и их удовлетворения и порождает возрастающую роль и значение стандарта: каждому человеку невозможно предоставить жизненные средства в достатке, изготовленные по индивидуальным лекалам и меркам. Отсюда – рост объемов и значения рекламы, скрывающие недолговечный, неиндивидуальный и «пластмассовый» характер предлагаемых товаров.
Быт . Бытовая среда в самом широком смысле (одежда, домашняя утварь, мебель, кухня и еда) становится все более одинаковой в разных странах и регионах мира. Этому способствует то же проникновение повсюду транснациональных корпораций (Макдоналдс, IKEA, Auchan и т.д.). В результате по всему миру все более похожим образом обставляются жилища, люди едят все более одинаковую пищу. В крупных городах рестораны самых разных кухонь мира создают стандартизированное разнообразие в меню и выборе блюд. При этом, конечно, например, японская еда и кухня в Москве или Париже пока еще совсем не то, что аутентичная еда и кухня в самой Японии.
По внешнему облику человека, его одежде чаще всего уже не скажешь, из какой он страны мира. Также по современной одежде уже гораздо труднее судить о достатке человека. Демократизация доходит до того, что миллиардеры стремятся выделяться уже не своей одеждой, а, напротив, демократичностью облика. Это сегодня считается проявлением вкуса и общественного такта со стороны богатейших людей, этого от них требуют.
Городское пространство (жилые кварталы, площади, парки) в разных странах оформляется уже по единым рецептам урбанистики. Новые стандартизированные экологичность и эргономичность городских пространств оставляют впечатление некоей стерильности и искусственности, тут городскому пространству не оставляется важнейшего свойства – быть самим собой. Новым урбанистам до всего есть дело, они любой закоулок преобразуют и «окультурят». Поэтому в новых городах не предусмотрено сколько-нибудь запущенных парков. Все должно быть под контролем, все должно учитываться и использоваться. Естественная городская среда уходит в прошлое.
То же впечатление однообразной искусственной стерильности оставляют крупные транспортные узлы (аэропорты, вокзалы), похожие один на другой в разных странах мира. Все продумано, коммерчески и рационально задействовано, комфортно и стерильно, в результате чего вокзалы и аэропорты крупных городов обезличены и почти неотличимы друг от друга.
Кстати, гораздо более однообразным по сравнению с прошлым является внешний вид разных марок автомобилей. Средние по цене машины уже мало чем внешне отличаются от более дорогих и более дешевых моделей. Не автолюбитель может даже и не скажет по внешнему виду, видит он перед собой дорогой или дешевый автомобиль.
Война и мир . Любопытно, как не слишком эстетично и весьма однообразно теперь выглядят военные разных армий в своем боевом снаряжении. Прошли времена, когда солдаты и офицеры разных армий стремились отличаться формой и ее расцветкой. Победили вполне понятные соображения прагматики для успешности ведения боевых действий. Самые эффективные специалисты по боестолкнове-ниям («зеленые человечки») выглядят примерно одинаково, напоминая кого-то вроде быстро двигающихся жуков зеленой и грязно-зеленой расцветки.
С точки зрения прогрессирующего всес-мешения любопытно выражение «гибридная война». Этот феномен определяют как такой вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а подавляет своего оппонента, используя информационное и экономическое давление (санкции), скрытые операции, кибервойны, а также оказывая поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Что важно, непосредственные военные действия могут вообще даже не вестись, и гибридная война может идти в мирное время. Нападающая сторона осуществляет стратегическую координацию всех своих многосторонних воздействий, оставляя себе возможность более или менее правдоподобного отрицания своей вовлеченности в конфликт.
Термин «гибридная война» впервые появился в публикациях англоязычных политологов в самом начале ХХI в., и тогда он обозначал объявленную США «глобальную войну с терроризмом». Потом его перенесли на соперничество мирового гегемона с Ираном, Китаем и Россией. Здесь для нас важно подчеркнуть, что гибридные войны можно также понять как некое смешение войны и мира, как такой их синтез, когда размывается сама грань между этими основными онтологическими понятиями. Конечно, можно вспомнить, что война в классическом смысле между крупными державами сегодня невозможна из-за ОМП и неизбежного в этом случае мирового ядерного апокалипсиса. Тем не менее, ослабление четкого образа войны и военного как классического человеческого типажа тоже способствует ослаблению и уменьшению в современном мире человеческих различий и индивидуальностей. Эта «гуманитаризация войны» тоже происходит из-за своего рода избегания смерти, прямой встречи с ней. Но кто избегает смерти, как известно, рано или поздно избегает и жизни (Ж. Бодрийяр).
Человеческий тип и человеческое разнообразие . Леонтьев, наверное, не мог себе представить, когда говорил о всесмешении и наступлении «среднего европейца», что дело дойдет даже до стирания различий между мужчиной и женщиной. ЛГБТ-движение, узаконение однополых браков, лживые лозунги против дискриминации по сексуальному признаку спекулируют на уважении прав личности, уважении к человеческой индивидуальности, но на практике приводят к стиранию человеческих различий (в спорте, армии, семье и т.д.). Ведь главное из них, на котором основываются остальные различия, – это различие между полами, между мужчиной и женщиной.
Тем не менее, современный так называемый гендерный подход-мейнстрим с вовлеченным в него ЛГБТ движением настаивает на том, что, напротив, это его представители отстаивают мир настоящего разнообразия. Возьмем радужный флаг. Кстати, его характерная черта – отсутствие какого-то доминирующего цвета, доминирующей окраски. Автор радужного флага художник Гилберт Бейкер так описал его значение: «Первоначальная идея радужного флага – освобождение. Возможность вырваться на свободу, выйдя за рамки, созданные страхом и стремлением “соответствовать нормам”, право заявить о своей сексуальности без стыда и боязни возмездия со стороны тех, кто диктует “этические законы”» [10].
Настаивание на приоритете индивидуальных различий в свободе от любых норм и типов Леонтьев в работе о среднем европейце как орудии всемирного разрушения назвал «многосложностью смешанной» , в отличие от «сложности, разделенной на слои и группы». Он подчеркивает там, критически разбирая социологию Герберта Спенсера, что «разнообразие лиц и усиление особой личности в людях обуславливается именно отдельностью социальных групп и слоев с умеренной лишь подвижностью по краям» [7, с. 207].
Искусство . Показатель подлинного жизненного разнообразия – это его отражение в искусстве. По Леонтьеву, это важнейший критерий цветущей сложности того или иного общества или культурно-исторического типа. Леонтьев считал эстетическую точку зрения наиболее объективной (кстати, вопреки традиционным представлениям об эстетике и эстетическом как царстве субъективности) в том смысле, что она приложима ко всему в мире – «от минерала и до самого всесвятейшего человека» [9, с. 78]. Но чтобы возникла полноценная поэзия, литература, живопись и т.д., должна существовать прежде всего поэзия жизни, на почве которой они только и могут возникнуть: «Чтобы жизнь сама была достойна хорошего изображения . – Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства» [9, с. 79–80]. Однако если судить по сегодняшнему состоянию культуры в мире в целом (литература, музыка, кино и др.), то никакого настоящего жизненного разнообразия нет. Что значимого на общемировом уровне написано в литературе в ХХI в.? Что создано в музыке? А в живописи? Притчей во языцех в живописи стало словосочетание «современное искусство», употребляемое чаще всего с отвращением и иронией.
Разнообразие на уровне так называемых сингулярных практик и субкультур – это не цветущее разнообразие, а просто пестрота, лишенная единства и единого цвета, единого настроения, как флаг ЛГБТ. Ведь «цветущая сложность» – это «единство в многообразии». А первое разнообразие – это, пожалуй, то, что Леонтьев называл «смешанной многосложностью».
Современную культуру во многом определяют жанр ремейков, т.е. паразитирование на ста- рых шедеврах, и сериальность, диктуемая соображениями прибыли, когда не надо выдумывать ничего принципиально нового. Например, наиболее популярные достижения в кино и литературе последнего времени – «Гарри Поттер» и «Игра престолов» – тоже раздуты во множество серий и растянуты по этим же соображениям.
Еще одна черта – смешение высокого и низкого. Например, нецензурная речь все более и более проникает в театр, музыку и кино, в литературу, чем тоже на самом деле убивается культура в ее высоком смысле, сама ее определенность.
Список литературы Либерализм как убийца "цветущей сложности": жизненный мир современного человека в свете идей К.Н. Леонтьева
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: АСТ, 2021.
- В.В. Розанов и К.Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К.Н. Леонтьеве. Комментарии. СПб.: Росток, 2014.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 14. Братья Карамазовы: роман в 4 ч. с эпилогом. Л.: Наука, 1975.
- Корольков А.А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб.: СПбГУ, 1991.
- Леонтьев К.Н. Над могилой Пазухина // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С.445-460.
- Леонтьев К.Н. Национальная политика как орудие всемирной революции // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 497-548.
- Леонтьев К.Н. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 100-233.
- Леонтьев К.Н. Чем и как либерализм наш вреден // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 118-143.
- «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания. СПб.: Владимир Даль, 2012.
- Радужный флаг (ЛГБТ) // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Радужный_ флаг_(ЛГБТ)
- Фудель И. Культурный идеал К.Н. Леонтьева // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Антология. Кн. 1. СПб., 1995. С. 160-180.