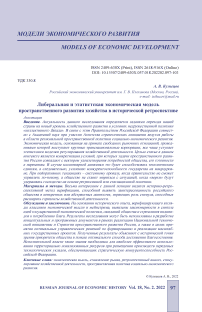Либеральная и этатистская экономическая модель пространственного развития хозяйства в исторической ретроспективе
Автор: Кузнецов Алексей Владимирович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модели экономического развития
Статья в выпуске: 2 (57) т.18, 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Актуальность данного исследования определяется задачами перехода нашей страны на новый уровень хозяйственного развития в условиях недружественной политики «коллективного Запада». В связи с этим Правительством Российской Федерации совместно с Академией наук при участии Агентства стратегических инициатив ведутся работы в области региональной пространственной политики социально-экономического развития. Экономическая модель, основанная на примате свободных рыночных отношений, провод-никами которой выступают крупные транснациональные корпорации, все чаще уступает этатистским моделям регулирования хозяйственной деятельности. Целью статьи в данном контексте является конкретизация условий, при которых задачи пространственного развития России совпадают с вектором удовлетворения потребностей общества, его готовности к переменам. В случае коллинеарной динамики это будет способствовать тектоническим сдвигам, а следовательно, усилению конкурентоспособности государства на макроуровне. При пейоративных тенденциях - системному провалу, когда правительство не сможет управлять по-новому, а общество не станет мириться с ситуацией, когда «верхи» будут удерживать господство на основе регрессивной или стагнационной политики. Материалы и методы. Весьма интересным с данной позиции видится историко-ретроспективный метод верификации, способный выявить заинтересованность российского общества в конкретных или абстрактных ценностях, играющих роль стимула, способных расширить горизонты хозяйственной деятельности. Обсуждение и заключение. На основании исторического опыта, верифицирующего взгляды классиков экономической мысли и мейнстрима, выявлены закономерности в синтезе идей государственной экономической политики, ожиданий общества и стремления индивидов к потреблению блага. Результаты исследования могут быть использованы в разработке концептуальных и программных документов в рамках реализации Национальной технической инициативы и Стратегии пространственного развития России, а также в целях принятия оптимальных управленческих решений по формированию и реализации масштабных государственных проектов. Полученные результаты объясняют с исторической точки зрения приоритеты общества в поиске оптимального способа достижения благосостояния. Исполнительной власти такие знания необходимы для наиболее эффективного использования территориально локализованных ресурсов при размещении производств передовых технологических укладов, обеспечивающих стратегическую конкурентоспособность Российской Федерации
Экономическая мысль, становление рынка, ретроспективный анализ, стимулирование хозяйственной деятельности, пространственная политика социально-экономического развития
Короткий адрес: https://sciup.org/147237704
IDR: 147237704 | УДК: 330.8 | DOI: 10.15507/2409-630X.057.018.202202.097-103
Текст научной статьи Либеральная и этатистская экономическая модель пространственного развития хозяйства в исторической ретроспективе
Актуальность данного исследования определяется задачами перехода нашей страны на новый уровень хозяйственного развития в условиях недружественной политики «коллективного Запада». В связи с этим Правительством Российской Федера- ции совместно с Академией наук при участии Агентства стратегических инициатив ведутся работы в области региональной пространственной политики социально-экономического развития. Экономическая модель, основанная на примате свободных рыночных отношений, проводниками которой выступают крупные транснациональные корпорации, все чаще уступает этатистским моделям регулирования хозяйственной деятельности. Целью статьи в данном контексте является конкретизация условий, при которых задачи пространственного развития России совпадают с вектором удовлетворения потребностей общества, его готовности к переменам. В случае коллинеарной динамики это будет способствовать тектоническим сдвигам, а следовательно, усилению конкурентоспособности государства на макроуровне. При пейоративных тенденциях – системному провалу, кода правительство не сможет управлять по-новому, а общество не станет мириться с ситуацией, когда «верхи» будут удерживать господство на основе регрессивной или стагнационной политики.
Обзор литературы
Теоретический базис статьи представлен фундаментальными трудами А. Смита [5], Дж. М. Кейнса [3], С. Бира [2] и Б. Трейси [6]. Историческая ретроспектива, верифицирующая концепции экономистов, содержится в работах Р. М. Мунчаева [4], М. И. Белова [1] и О. Петрова1. Кроме того, использовались документальный и нормативный источники – Жалованная грамота Ивана Грозного Строгановым и Законы Хаммурапи.
Методы
В целях верификации поведенческих особенностей и моделей регулирования хозяйственной деятельности применен историко-ретроспективный подход, способный выявить заинтересованность российского общества в конкретных или абстрактных ценностях, играющих роль стимула в пространственном развитии страны. Этот подход соответствует так называемому методу Рошера, согласно которому необходимо в первую очередь определить принципы, согласно которым действуют движущие силы экономического развития. Во-вторых, необходимо коррелировать тенденции современного этапа социально-экономического развития и опыт предшествующих поколений. Не ограничиваться принципом историзма – верифицировать полученные данные на основе знаний о развитии всех культурно-исторических типов, особенно тех, которые завершили жизненный цикл и хорошо изучены. Все это позволит экстраполировать опыт и на его основе создать работоспособную модель взаимоотношения государства и общества.
Результаты
По мнению классиков политической экономии, человек алчен и эгоистичен, ищет выгоду. Поэтому он «…употребляет капитал на поддержку промышленности только ради прибыли…» и «…всегда будет стараться употреблять его на поддержку той отрасли промышленности, продукт которой будет обладать наибольшей стоимостью и обмениваться на наибольшее количество денег или других товаров». Но, преследуя лишь выгоду, «…он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения…» и, «…ча-сто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это» [5, с. 332].
Для современного, неолиберального мейнстрима характерна апелляция к «психологии успеха». Выйти из зоны комфорта, повысить эффективность и, используя полноту информации, опираясь на рациональное мышление, сделать выбор в пользу своей и всеобщей выгоде – это промоушн современного Homo economicus [6].
Но что значит выйти из зоны комфорта? Это означает отказаться от пространства, где человек чувствует себя безопасно, его действия предопределены, а их результаты предсказуемы. Для этого нужно что-то, что будет сильнее стремления сформировать вокруг себя зону комфорта.
Рассмотрим данный тезис на примере выбора вектора расселения доисторического человека. В начале межледниковья (~ 10 тыс. лет назад) часть населения Европы и Азии уходила вслед отступа- ющему леднику дальше к Северу. В пределах тундростепи было комфортнее, там сохранялась плейстоценовая мегафауна, на которую привыкли охотиться. Тем, кто выбрал обратное направление миграции, приходилось преодолевать трудности. Они вынуждены были перейти к оседлому образу жизни на территории Плодородного полумесяца и Балкан. Эти территории, как бы сказал Н. М. Карамзин, стали феатром боевых действий. Ради своей безопасности автохтоны начали создавать укрепленные поселения – протогорода, такие как Чатал-Хююк, Иерихон, Пловдив, Урук. Восполняя убыль кормовой базы, домистифицировали скот и злаковые. Иными словами, создавали вокруг себя зону комфорта на новом уровне. Длительное существование таких неолитических поселений, интенсивный обмен информацией между ними стали основой для формирования культурно-исторических типов.
С течением времени, накопив навыки производительного труда, поздненеолитические общества получили возможность не только обеспечить своих членов необходимым количеством пищи, но и создавать прибавочный продукт. Поэтому уже в эпоху ранней бронзы (IV тыс. до н. э.) зародилось межобластное разделение труда. Например, население Умм-Дабагийи занималось заготовкой шкур онагров, в Чога-Мами и Рас-Аль-Амийи специализировались на ирригационном земледелии. В Арапчийе обнаружено каменотесное производство. В бассейне Хабура (Северная Сирия) открыты поселения металлургов (Чагар-Базар), а селение Убу-Салабих (Южное Двуречье) представляло посреднические функции в торговле с Северной Сирией [4]. Разделение труда и региональная специализация усиливали интерес к обмену и формировали спрос на профессии, связанные с реализацией предпринимательской функции. Поэтому, кроме свободных сельских обывателей (Авилум), которые могли осуществлять обмен в пределах со- седской общины, появились торговые агенты – тамкары, влиявшие на эластичность спроса. Помощники тамкаров (шамаллум) осуществляли непосредственные торговые операции между вышеназванными городами на свой страх и риск2.
Кроме алчности и эгоистичности, человеком движет интерес. Об этом говорили неоклассики. Обмена, приводящего к распределению благ, мы не встретим в культурно-технологическом комплексе мустьерской эпохи, производящей одинаковые нуклеусы от Пиренейского полуострова до Тибетского нагорья. Интерес рождает разнообразие предлагаемых форм, обмен которыми не только никому не приносит убытков, но некоторым людям, по их собственному мнению, приносит пользу. Распределение ресурсов движется в таком обществе и имеет оптимальный характер. Но продолжается это до определенного момента, когда в результате общественного договора формируются институты центральной власти.
С возникновением этих институтов обмен усложнился, он все больше подпадал под регулятивные механизмы. В руках энов - держателей храмовой округи - аккумулировались материальные блага, собранные в виде жертвоприношений общинников. Часть общинников теряли самостоятельность, переходили в разряд мушкенум, держащих дворцовую землю (ильк). Полученная таким образом прибавочная стоимость позволяла регулировать спрос и предложение на рынке. Так создавался не только образ, но и Modus vivendi Homo economicus, который спустя 4 тыс. лет был описан классиками политической экономии. Позднее регулятивные функции взяли на себя чиновники (энси, рапи), в конце концов сами тамкары вынуждены были «держать ильк» дворца, т. е. попали под прямое влияние царя (лугаля).
Таким образом, уже на ранней стадии развития цивилизации сложившийся рынок стал испытывать давление со стороны. Сложилась административно-командная система, регулирующая, а с точки зрения либеральной экономической идеи – тормозящая экономическое развитие. С тех тор продолжается спор между либеральной и консервативной мыслью, свободными рыночными отношениями и этатистской моделью, фритредерством и протекционизмом.
Нашему поколению довелось увидеть воплощение этого спора воочию. В 1990-е, после развала Советского Союза, в нашей стране к власти пришли неолибералы, которые провозгласили свободную рыночную конкуренцию. Англо-саксонская модель «невидимой руки» должна была продемонстрировать все ее превосходство над плановой экономикой. Но вместо этого алчность и эгоистичность привели к расхищению народного достояния, массовому обнищанию и чуть не привели к гуманитарной ката-строфе3 и развалу государства.
Итак, интерес и алчность – вот те сильные чувства, которые движут человеком, заставляя его созидать и разрушать. Кроме них, у человека есть еще одно качество, имевшее критическое значение до середины XX в., – это страсть к сбережению. Досталось оно нам с тех времен, когда ежедневно приходилось задумываться о «хлебе насущном». Голод сопровождал человеческое общество на всем протяжении его существования. Страсть распространяется не только на продукты питания – на любой товар, в том числе на деньги. Мы находим многочисленные клады монет и в те времена, когда они не всегда применялись как торговый эквивалент, а были, скорее, статусным товаром. И в более поздние времена, уже после «революции цен» XVI в., когда они, обесценившись, стали доступны большинству населения.
Эта страсть к накопительству была отмечена Дж. М. Кейнсом. Негативным последствием этой черты характера, по его мнению, был растущий дисбаланс между спросом и предложением, который вел к за-
-
3 Петров О. Указ. соч.
товариванию и кризису перепроизводства. Рыночный механизм испытывал сбой функции распределения. Избежать этого, по мнению Дж. М. Кейнса, помогает государство. Регулируя спрос и предложение активной кредитно-денежной политикой и инвестициями в бизнес, оно способно сохранить потенциал экономики [3]. Таким образом государство осуществляет предпринимательскую функцию, но ее распространение должно быть ограничено. По схеме, предложенной С. Биром для описания функционала организации, можно определить, что обществу свойственно решать задачи оперативной деятельности, придерживаясь императива «здесь и сейчас», бизнес связан с принципом «там и тогда» – стратегическим ответом на воздействие внешних вызовов окружающей среды – и воплощает в себе склонность к познанию. Государство же должно отвечать за принятие решений, ведущих к равновесию между «здесь и сейчас» и «там и тогда», чтобы сформировать директивные указания, которые обеспечат жизнеспособность системы в целом [2].
Для любого перспективного проекта государства в качестве катализатора необходим интерес социума или его части к положительному итогу; стимулировать же его нужно инвестициями и дотациями. Проще говоря, векторы государственной политики и интересов общества должны быть коллинеарны, сонаправленны и обеспечены финансами.
Обсуждение
Достичь этого можно двумя путями – прямым материальным стимулированием (тогда из бюджета на достижение целей общего благосостояния будут изыматься средства в повышенном объеме) или вовлечением социума в процесс (тогда частные инвестиции будут снижать объем прямого финансирования из бюджета).
Предпочтителен второй вариант, но для этого требуется предоставление обществу возможности получения осязаемой выгоды в ближнесрочной перспективе.
Верифицируем данное предположение на основе опыта взаимодействия государства и общества на отечественном примере.
В конце XV в. Россия активно включилась в процесс, получивший название Великих географических открытий. В то время Северо-Восточный фронтир активно осваивали ушкуйники. Вслед за ними туда проникали купцы. Их прельщало обилие пушного зверя – нескончаемого, как казалось, ресурса на получение «мягкого золота», которое пользовалось спросом в период Малого ледникового периода (XIV– XIX вв.).
В данном направлении развивали торгово-промышленную «империю» купцы Строгановы. В 1558 г. Иван IV пожаловал Григорию Аникееву сыну Строганову обширные земли «ниже Великие Перми, за восемьдесят за восемь верст, по Каме реке, по правую сторону Камы реки с усть Лысвы речки, а по левую деи сторону реки Камы против Пызноские курьи, по обе стороны по Каме до Чюсовые реки». Ибо «те деи места искони вечно лежат впусте, и доходу в нашу казну с них нет никоторого, и у пермич деи в тех местах нет угожаев никоторых»4. Получив права на хозяйственное освоение Пермского края и прилегающих территорий, они активно вовлекали население Русского государства в колонизацию региона. И предпринимателей, и их наемных работников прельщали богатые ресурсы региона. Кроме пушнины, это была соль, которую варили в специальных металлических цренах. Соль, как и пушнина, имела весьма важное значение в формировании торгового баланса государства. Спрос на металл (цены подвергались износу из-за воздействия высоких температур) активизировал поиски железнорудных месторождений. Железо было полезно и для организации обороны уже освоенных территорий.
В 1574 г. «именитые люди» Яков и Григорий Аникеевичи Строгановы получили от царя грамоту на новые обширные территории за Югорским Камнем на Тахчеях, на Тоболе и Иртыше и на Оби. Уже в то время они столкнулись с вотяками, подчинявшимися Кучуму, хану Сибирской орды. Чтобы сохранить за собой дарованные земли, Строгановым нужно было инвестировать в них крупные средства. Еще в 1564 г. они получили жалованную грамоту о постройке укрепленного города Орел «и на городе пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищалников и воротников устроити, для бе-реженья от Нагайских людей и от иных орд, и около того места лес по речкам и до вершин и по озерам сечи, и пашню росчистя пахати, и дворы ставити, и людей называти неписменных и нетяглых, и росолу искати, а где найдется росол, и варницы ставити и соль варити»5. В 1581 с этого места начался поход Ермака в Сибирь.
Уже через пять лет был основан первый русский город в Сибири – Тюмень, а в 1601 г. – Мангазея как крупнейшая в свое время торговая фактория и административный центр сбора ясака. Пока существовал морской путь в Мангазею, было обилие пушнины, город процветал. Его называли «златокипящим» (как Микены гомеровского эпоса). Это был чрезвычайно богатый торгово-купеческий город, где товары и золото находились в большом по объему и быстром по времени осуществления сделок торговом обороте, приносившем баснословную прибыль. Только за 1630–1637 гг. – время для Мангазеи далеко не лучшее – отсюда было вывезено около 500 тыс. шкурок соболей [1]. Затем запрет на морской путь в Мангазею, снижение численности пушного зверя сдвигали конъюнктуру в пространственном континууме дальше на Восток. Уже в 1639 г. в поисках туземцев, не обложенных ясаком, новых земель и с целью «проведывания моря» сибирские казаки вышли к берегам Тихого океана.
Заключение
Таким образом, общая экономическая конъюнктура, волюнтаристские методы стимулирования государственной властью, не ограничивающие свободу действия агентов, инвестиции со стороны представителей крупного капитала приводят к позитивной динамике в долгосрочном национальном проекте, связанном со стратегией экономического развития. Следование данной модели способствует наиболее эффективному управлению в области региональной пространственной политики при размещении производств передовых технологических укладов, обеспечивающих стратегическую конкурентоспособность Российской Федерации.
Список литературы Либеральная и этатистская экономическая модель пространственного развития хозяйства в исторической ретроспективе
- Белов М. И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея: Мангазейский морской ход. - Л.: Гидрометеоиздат, 1980. - Ч. 1. - 164 с.
- Бир С. Мозг фирмы / пер. с англ. М. М. Лопухина. - М.: Радио и связь, 1993. - 415 с.
- Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Н. Н. Любимова. - М.: Гелиос АРВ, 2011. - 350 с.
- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии: Исслед. сов. экспедиции в Ираке. 1969-1976 гг. - М.: Наука, 1981. - 320 с.
- Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцэкгиз, 1962. - 677 с.
- Трейси Б. Выйди из зоны комфорта: измени свою жизнь, 21 метод повышения личной эффективности / пер. с англ. М. Сухановой. - 6-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 127 с.