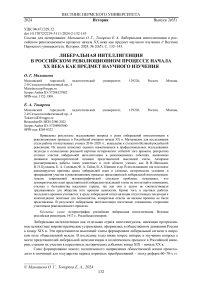Либеральная интеллигенция в российском революционном процессе начала XX века как предмет научного изучения
Автор: Малышева О.Г., Токарева Е.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальная история Российской империи
Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Приведены результаты исследования вопроса о роли либеральной интеллигенции в революционном процессе в Российской империи начала XX в. Материалом для исследования стали работы отечественных ученых 2016-2020 гг., вышедшие к столетию Великой российской революции. Их анализ позволяет оценить наметившиеся в профессиональных исследованиях подходы к осмыслению реальной картины исторических событий того времени, раскрытию степени участия либеральной интеллигенции в революционных событиях, выявлению динамики мировоззренческой позиции представителей мыслящей элиты. Авторами рассматривались работы таких известных в этой области ученых, как В. В. Шелохаев, В. П. Булдаков, К. А. Соловьев, Ф. А. Гайда, В. А. Щипков и др. В исследованиях так или иначе анализируются причины краха либеральной идеи в сложных исторических условиях и прекращения участия в революционном процессе представителей либеральной интеллигенции. Анализ современной историографической ситуации проблемы показывает, что демократические идеи представителей либерально мыслящей элиты не могли найти понимания, отклика у большинства населения страны, так как они в целом не соответствовали традиционным для общества того времени ценностям. Кроме того, в научных работах последнего времени уточняется: в среде либеральной интеллигенции отсутствовала тенденция к консолидации; понятные для большинства, конкретные ответы на вызовы времени не были представлены. В результате либеральная интеллигенция постепенно становилась сторонним участником революционного процесса.
Историография, российская либеральная интеллигенция, великая российская революция, 1917 г, российская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/147246528
IDR: 147246528 | УДК: 94(47):329.12 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-132-143
Текст научной статьи Либеральная интеллигенция в российском революционном процессе начала XX века как предмет научного изучения
Либеральная интеллигенция как отдельная страта интеллектуалов, имеющая прогрессивные ценностные мировоззренческие устремления, оформилась в общественном движении России к концу XIX в. Эти представители мыслящей элиты формировали либеральный сегмент в широком поле общественной мысли. В последние годы вновь возрос интерес к изучению вопроса о месте представителей либеральной интеллигенции в политическом процессе в Российской империи, степени их участия в переломных исторических событиях конца XIX – начала XX в.
Само формирование нового политического направления общественной жизни происходило в значимый для государства период коренных преобразований – эпоху реформ 60–70-х гг.
XIX в., а также в пореформенный период. Причем изначально в либеральной среде проявили себя два направления. В рамках первого, «профессорского», либерализма осуществлялись теоретические исследования актуальных для империи общественных вопросов; второе направление носило в большей степени практический характер и было связано с земским движением [ Гер и др., 2017, с. 156].
Как подчеркивают С. Я. Лавренов и Н. И. Бритвин, Николай II при восшествии на престол заявил о своем намерении сохранить неограниченную самодержавную власть в Российской империи. Своим отказом рассматривать вопросы реформирования системы государственного управления император оттолкнул от себя представителей либеральной интеллигенции, настроенных на перемены, земство, а также представителей буржуазии, которые стремились к расширению сферы своего влияния в экономике и осознавали необходимость перемен государственного устройства. Вообще в конце XIX в. все представители российского общества ожидали перемен. В первую очередь существовала уверенность в том, что Россия нуждается в либерализации общественно-политической жизни и что необходимо утвердить основы социальной справедливости [ Лавренов , Бритвин , 2017, с. 69].
Современные исследования, посвященные вопросу о роли представителей либеральной интеллигенции в политическом процессе Российской империи конца XIX – начала XX в., позволяют воссоздать многоплановую картину исторических событий того времени, выявить степень участия либерально мыслящей элиты в революционных событиях, проследить динамику мировоззренческих позиций представителей российской интеллигенции.
Процесс самопознания представителей мыслящей элиты уже становится предметом самостоятельного научного рассмотрения, детально изучаются их работы. Однако динамика отношения интеллигенции к революции принимается как историческая данность. Отсутствует комплексный подход к исследованию проблемы, хотя и осуществляется анализ вопросов противостояния интеллигенции и власти [ Котеленец , Сергеева , 2017, с. 253].
-
В. В. Шелохаев и К. А. Соловьев отмечают: в основе научной полемики остается поиск ответа на вопрос, существовала ли для Российской империи возможность избежать революции 1917 г. [ Шелохаев , Соловьев , 2018, с. 162]. В. А. Щипков обращает внимание: «Сегодня в медийном и научном дискурсе существуют пять разных взглядов на революционные события 1917 года: классический либеральный подход, неолиберальный (амбивалентный) подход, подход западных социалистов, подход российских социалистов и традиционалистский подход. Они не являются статичными и совершают идеологические дрейфования» [ Щипков , 2019, с. 103].
С некоторой долей истины есть понимание того, что «историческое поражение российского либерализма начала ХХ в. отбрасывает свою тень на историю изучения этого политического движения; выяснение глубинных (или же, напротив, ситуативных) причин его неудачи является одной из стержневых линий историографии данной проблемы» [ Леонтьева , 2013, с. 189].
Можно согласиться с А. В. Лубковым и другими учеными, которые считают, что значительный исследовательский интерес вызывают проблемные вопросы о степени участия представителей российской либеральной интеллигенции в подготовке Февраля 1917 г., об исторической ответственности за свершившийся факт – прекращение существования Российской империи. Эти же вопросы часто рассматривают публицисты, и в данном случае серьезный исторический анализ часто отсутствует, преобладают эмоциональные оценки: российскую интеллигенцию называют главным виновником 1917 г. [ Лубков , 2020, с. 4].
Целью данного исследования является анализ современных интерпретаций роли и степени участия либеральной интеллигенции в российском революционном процессе начала XX в.
Методологически исследование основывается на концепте проблемно-тематической историографии. В нашем случае проблемно-тематический подход обусловил привлечение в качестве историографических источников научных публикаций отечественных историков, хронологически тяготеющих к столетию Великой российской революции (2016–2020) и в которых нашли отражение интерпретации причин и факторов, способствовавших краху либеральной идеи в российском обществе и утрате либеральной интеллигенцией политических перспектив участия в революционном процессе 1917–1921 гг.
С начала 1990-х гг. прошлого века начался новый этап более углубленного изучения отечественной истории, где важное место уделяется вопросам становления и развития российского либерализма и его роли в революционном движении начала ХХ в. Во многом это стало возможным благодаря изменениям, которые произошли в обществе и государстве в связи с открытием для широкого пользования множества ранее неизвестных архивных документов, до этого находившихся в ограниченном доступе. При этом, несмотря на определенные трудности, за последние годы исследование российского либерализма превратилось в самостоятельное направление, получившее значительное развитие в различных областях научного познания, в том числе в историографии.
В конце XIX – начале XX в. в Российской империи произошли значительные изменения на всех уровнях общественного бытия. Реформы затрагивали правовое поле государства, сферу управления и экономики, здравоохранения и образования. Стала осознаваться необходимость совершенствования системы управления. Благодаря реформам активизировалось предпринимательство, практически не встречая препятствий в своем развитии. Создавались политические партии с разными, порой противоположными политическими целями и программами. Русская культура того периода занимала достойное место на международной арене; наращивала потенциал российская наука. Одновременно в этот исторический период происходили драматические для империи события: Первая русская революция (1905–1907), Русско-японская война (1904– 1905). О. В. Большакова отмечает, что главная характеристика этого периода – это «преддверие революции» 1917 г. [ Большакова , 2019, с. 158].
Сложная, нестабильная обстановка конца XIX в. оказывала влияние на общественное сознание. Социальная структура общества усложнялась, в обществе росло ощущение неустойчивости ‒ политической и социальной. Ж. А. Гумерова обращает внимание на кризис прежних идей «левой» (по Н. А. Бердяеву) интеллигенции в связи с распространением марксизма в России. Это направление «становится идеологической заменой народничества» [ Гумерова , 2019, с. 82]. Зарождается новый тип представителя мыслящей элиты, который уже не ориентируется на нигилизм в своих теоретических изысканиях или практической деятельности. Исследователь указывает на возросшее влияние идей, установок европейских мыслителей на российскую интеллигенцию [Там же].
В работе И. И. Глебовой противопоставление власти и общества конца XIX – начала XX в. характеризуется следующим образом. Самодержавие «лишилось монополии на революционизм» [ Глебова , 2017, с. 103]. Общество, наделив власть статусом реакционера, перехватило инициативу в собственные руки. Оно было модерным, нацеленным на трансформацию современности и создание будущего, уверенным в победе над властью. На всех уровнях общество того времени проявляло себя стремлениями поиска «новой правды» и установки на обновление страны [Там же, с. 102–103].
По мнению И. И. Глебовой, Февральскую революцию 1917 г. не стоит рассматривать исключительно как цепь событий и комплекс конкретных результатов. Сначала была осуществлена революция сознания: представители либеральной интеллигенции в своих выступлениях, публикациях создавали у подданных империи установку на революцию, готовили страну к переломному событию. Однако в Феврале 1917 г. проявили себя не только либеральнодемократическое, но также народное и большевистское движения [Там же, с. 102, 106].
-
В. П. Булдаков характеризует Российскую империю как «систему авторитарнопатерналистского типа». Ее основой являлось самодержавие. Инновационность была чужда подобной системе, однако ее нельзя было назвать однозначно застойной: настрой на самосохранение, возможность осуществить мощные мобилизационные усилия присутствовали. Потенциал для осуществления экономического роста имелся. Все-таки тяготение к застойному существованию усилилось. В результате российское государство продемонстрировало собственную уязвимость перед внезапными вызовами [ Булдаков , 2017, с. 160]. С точки зрения В. П. Булдакова, самодержавие проявило свою «внутреннюю недееспособность» и по этой причине развалилось, а последующие за февралем – мартом 1917 г. «попытки либеральных и пра-
- восоциалистических политиков втиснуть революционный процесс в рамки формальной демократии выглядят заведомо неудачными» [Там же, с. 165].
-
В. П. Булдаков также отмечает глубинный антагонизм, характерный для начала 1917 г. Противостояние заключалось не в столкновении и противоречиях пролетариата и буржуазии, не в конфликте «верхов» и «низов», но в том, что культура европеизированной мыслящей элиты и культура традиционалистских масс были несовместимы: «Отсюда борьба символов: одни за “демократию”», другие ‒ за еще более призрачный “социализм”» [ Булдаков , 2020, с. 16].
-
В. В. Шелохаев считает, что центральный проблемный вопрос либерализма – проблема статуса личности, т.е. человека, который осознал свою самость и претендует «на собственный статус во взаимодействиях с обществом и государством» [ Шелохаев , 2019, с. 10–11]. Личность стремится раскрыть свой потенциал не только в частном, но и в общественном пространстве. Соответственно, она нуждается в поддержке государственных институтов. В. В. Шелохаев обращает внимание на позднее, по сравнению с западными государствами, зарождение либерализма в Российской империи и выделяет следующие компоненты российских реалий, которые затрудняли формирование свободной личности: крепостничество, сословная структура общества, самодержавный политический режим [Там же, с. 12].
Существовавшие в конце XIX – начале XX в. общественные противоречия стали неразрешимы в том числе и вследствие отсутствия в среде либеральной интеллигенции единства; желание спасти российское государство от надвигающейся катастрофы не оформилось в полной мере в этой среде. И данную роль впоследствии взяли на себя большевики.
О. Б. Леонтьева обращает внимание на то, как изменялась интерпретация российской либеральной интеллигенции. В научных исследованиях советского времени эти представители мыслящей элиты воспринимались как сторонники контрреволюции. В конце XX в. вопрос стал анализироваться в иных ракурсах. Во-первых, в деятельности и теоретических программах либерально-демократической интеллигенции увидели стремление избежать крайностей (реакции, революции). Во-вторых, либерализм стал рассматриваться как мощная интегрирующая сила, обладающая жизнеспособностью. Деятельность представителей либеральной интеллигенции конца XIX – начала XX в. в исследованиях нашего времени трактуется гораздо шире и всеобъемлюще, если сравнивать с трактовками их современников [ Леонтьева , 2013, с. 209].
Необходимо, основываясь на анализе различных историографических концепций, предметно разделить существующие подходы к пониманию роли либеральной интеллигенции. Современные исследования по этому вопросу можно условно разделить на две группы. В одних обосновывается точка зрения о том, что роль российской либеральной интеллигенции в революционном процессе заключалась в продвижении идей западного либерализма. Во многом эти идеи оказались в совершенно чуждой им социальной среде, так и не сумев стать основой политического процесса в обществе. Другой подход основывается на том, что либеральная интеллигенция так и не смогла занять центристскую позицию, оказавшись по разные стороны революционных событий.
Ф. А. Гайда обращает внимание на возникновение в конце XIX в. в среде представителей мыслящей элиты точки зрения на возможность зарождения «ново грядущей интеллигенции», связанной с народом. Эта точка зрения сначала была высказана в социалистических кругах. О появлении новой интеллигенции в начале XX в. рассуждали и в среде социал-демократов, и на религиозно-философских собраниях, и в дискуссиях на страницах «Вех». В рассуждениях представителей мыслящей элиты того времени можно выявить различные представления об отношении интеллигенции к народу. Однако прослеживаются и точки соприкосновения. Так, либералы, консерваторы, социалисты-народники подчеркивали значение просветительского долга интеллигенции, причем в просвещении акцентировалось внимание на идейном значении понятия. Представитель мыслящей элиты, образованного общества стал пониматься как носитель идеи. Несмотря на изменение понимания интеллигенции, ей все также отводилась ведущая роль в обществе [ Гайда , 2020, с. 56–67].
Изучая российское либеральное движение в канун Великой российской революции, Ф. А. Гайда формулирует весьма точные наблюдения о том, что «политическая активность ли- бералов накануне революции позволила им “оказаться на правильной стороне истории” в ходе Февральской революции 1917 г. и сформировать Временное правительство. Однако по мере развития событий они быстро уступили место более радикальным силам. Серьезной и широкой опоры в стране либералы не имели» [Гайда, 2021, с. 141].
-
В. А. Щипков подчеркивает, что интеллигенцию в широком историческом смысле можно отнести к революционному классу, так как к этой социальной страте следует отнести личностей, нацеленных на прогресс, которые «стремились волевым усилием взять в свои руки дух истории» [ Щипков , 2019, с. 28]. Представители интеллигенции относились к разным сословиям, но их объединяли особое состояние духа, нацеленность не только на получение власти над дискурсом, но также на создание нового мировоззрения, нового человека [Там же].
Становление интеллигенции как новой страты в России шло особым путем, отличным от процесса в западных странах. Российское общество и представители власти сначала относились к ней как к группе образованных граждан, которые занимались исключительно интеллектуальным трудом. В государстве отсутствовали демократические институты, и стремление представителей мыслящей элиты к политическим свободам упускалось из вида либо не осознавалось.
К 1870-м гг. понятие «интеллигенция» обозначало особый тип публично активного русского человека – интеллектуала на западный манер. Это слово стало таксономическим обозначением для отдельной группы людей, чья профессиональная идентичность или общественная функция больше не описывались традиционными категориями российской социальной страты, в которой они родились, а также не соответствовали табелю рангов государственной службы.
Принято рассматривать два этапа становления и развития дореволюционной интеллигенции. На первом этапе основу представителей мыслящей элиты составило поколение людей 40-х гг. ХIХ в., которое состояло прежде всего из дворян и выходцев состоятельных слоев населения. Второе поколение, сложившиеся в 60-е гг. позапрошлого века, представляло собою поколение «детей», которое включало представителей разных социальных страт, получившее впоследствии наименование «разночинцы». Таким образом, интеллигенция не являлась по своей сути сплоченным социальным слоем.
Как отмечает А. В. Антошин, психология представителей российской интеллигенции конца XIX в. формировалась в условиях конфликта власти и общества. Они по-разному реализовывали себя в общественной деятельности: преподавали в столичных университетах или провинциальных гимназиях, действовали в земском управлении или в коллегии адвокатов. Для каждого из них были характерны стереотипы мышления, присущие их сфере деятельности. Восхищение большинства представителей российской либерально-демократической интеллигенции европейской цивилизацией было связано с тем, что они осознавали масштаб технологического прогресса Запада, его экономическую мощь. При этом рассуждения мыслящей элиты о конституционализме, принципе неприкосновенности личности часто носили схематический характер, а представление о четкой практической реализации своих теоретических изысканий отсутствовало [ Антошин , 2016, с. 104–105].
Изучая период рубежа веков, К. А. Соловьев приходит к важным, на наш взгляд, выводам. Он, в частности, утверждает, что «Россия вступила в острую фазу политического кризиса, когда любой новый шаг – вперед или назад, влево или вправо, или даже просто стояние на месте – предопределял его эскалацию» [ Соловьев , 2018, с. 320].
Ситуация изменилась в ходе Первой русской революции в 1905–1906 гг., когда в России «…появилась Государственная дума, а, следовательно, выборы в представительное учреждение, объединенное правительство, легальные партии, свободная печать» [Там же, с. 340]. Заметим, что во всех этих процессах либеральная интеллигенция играла не последнюю роль. В результате такого положения, и здесь мы вновь согласимся с автором, «решения, принимаемые в рамках такой политической системы, ‒ следствие не целенаправленной политики, а сложного, во многом непредсказуемого баланса сил» [Там же, с. 343].
Уже в другой работе, анализируя период относительно непродолжительного сосуществования представительной и исполнительной власти на завершающем этапе существования Российской империи, К. А. Соловьев приходит к выводу о том, что «из различных форм вза- имодействия депутатов и правительства постепенно складывалась новая политическая система, что не исключало острых конфликтов между ведущими игроками. Напротив, в постоянно уплотнявшемся политическом пространстве конфликты происходили только чаще. История российской империи последнего ее десятилетия – это история кризисов разной степени остроты и глубины. Конечно, это можно считать явным признаком глубокой болезни системы, которая уверенной поступью шла к своему концу» [Соловьев, 2021b, с. 71]. И с этим выводом сложно не согласиться.
Когда после Февраля 1917 г. к управлению государством приступило Временное правительство либерального толка, оно «сняло все ограничения гражданских прав, гарантировало свободу собраний и создания общественных организаций, отменило смертную казнь, разрешило неограниченное местное управление» [ Никонов , 2017, с. 27]. Как подчеркивает В. А. Никонов, представители мыслящей элиты и олигархи воспользовались сложностями военного времени, чтобы установить собственную власть. Однако они не осознавали природу власти и особенности своей страны. Новое правительство предлагало для реализации крайнюю форму политического либерализма, однако не позаботилось обеспечить легитимность собственной власти; институты представительной демократии создавались медленно [Там же, с. 28].
К тому же продолжалась Первая мировая война. Ю. А. Петров замечает: в мирное время России удавалось решать социальные конфликты, в условиях войны это оказалось сделать затруднительно. У российских рабочих и крестьян крепло желание покончить с войной и сокрушить существующую власть [ Петров , 2017, с. 16].
Хотя рабочие действительно сыграли значительную роль в Октябре 1917 г., все-таки революцию создавала интеллигенция. Мыслящая элита готовила ее интеллектуально. Во главе политических партий стояли представители либерально-демократической интеллигенции; именно входили во Временное правительство [ Никонов , 2017, с. 33].
Рассматривая интеллигенцию как отдельную страту дореволюционного российского общества, необходимо учитывать, что в тех условиях старая социальная иерархия традиционных сословий все чаще становилась серьезным препятствием на пути модернизации российского общества. По факту она уже не работала на развитие российского государства. Тем не менее устаревшие сословные структуры просуществовали вплоть до конца империи. В то же время наличие этой среды в значительной мере способствовало формированию русской интеллигенции.
-
А. А. Возьмитель пишет, что интеллигенция Российской империи формировалась из образованных личностей, способных критически мыслить. Они высказывали оппозиционные самодержавию идеи, а их главная цель заключалась в служении народу. Представители мыслящей элиты ориентировались на гуманистические идеалы свободы, равенства, братства. Причем все перечисленные черты были характерны и для дворянских, и для разночинных интеллигентских кругов [ Возьмитель , 2019, с. 72].
Их появление было неслучайным, к тому же общество было уже готово к изменениям. Рост городского населения и общего уровня образования способствовал быстрому проникновению новых идей и развитию различных политических течений.
Однако в обществе возобладали безответственные и нереалистичные ожидания, к которым государство не было подготовлено. Обострилось противостояние либерально настроенной интеллигенции и представителей властных структур. В теоретических исследованиях мыслящей элиты не видели ничего полезного для применения; идеи либеральной интеллигенции не учитывали при формировании государственной политики. В обществе также проявило себя иное противостояние – буржуазии и низших слоев общества, причем представителей интеллигенции можно было увидеть по разные стороны баррикад.
-
В. В. Возилов отмечает, что в XIX – начале ХХ в. между представителями либеральной интеллигенции и радикалами существовало расхождение по вопросу о приемлемости использования крайних политических средств, чтобы достигнуть желаемого результата. Это идеологическое расхождение было связано с принципом «цель оправдывает средства», его отрицанием или принятием [ Возилов , 2019, с. 131].
В коллективной монографии «Феномен российской интеллигенции конца XIX – начала XX века» исследуется вопрос о том, как проявляла себя либеральная интеллигенция в революционной деятельности, и подчеркивается: «Сторонники революционных изменений считали себя истинными деятелями освободительного движения, причем не только народных масс, но и всей страны» [ Рябов и др., 2020, с. 94]. Авторы отмечают, что некоторые представители интеллигенции, которых сначала возмущало насилие над человеком, позже стали поддерживать террористическую деятельность [Там же, с. 114].
Представитель либеральной интеллигенции XIX в. И. С. Тургенев, как замечает О. А. Жукова, воссоздавал в своих художественных работах интеллектуальную историю Российской империи как «историю русского Просвещения». Возникновению феномена революционной интеллигенции посвящен роман писателя «Новь». В этом произведении представители разночинной интеллигенции, революционного народничества изображаются как «больной симптом времени». Когда произошла революция, именно благодаря революционной интеллигенции рабочие, крестьяне, бывшее «немое большинство», обрели голос. В нравственном горизонте разночинной интеллигенции, революционного народничества отсутствовала культурная сложность интеллигенции либеральных кругов, также была исключена духовная рефлексия. В том числе произошла редукция идеи свободы, причем как в культурном, так и в моральном плане [ Жукова , 2018, с. 247, 251].
По сути, российская либеральная интеллигенция, имея определенный авторитет в обществе, так и не смогла выработать единую консолидированную национальную идею развития. Вместо того чтобы предложить обществу действенную цель на многие десятилетия, как позднее это сделают большевики, часть представителей либеральной интеллигенции включилась в борьбу за власть, а другие заняли позицию стороннего наблюдателя.
Обсуждая проблему «политического сыска и либерального движения», К. А. Соловьев задает вопрос: «Существовало ли “либеральное общество” или оно только мерещилось чиновникам Департамента полиции? Если говорить об идейной доктрине..., то русское общество рубежа XIX‒XX вв. не могло быть либеральным. В нем едва наметилась идеологическая дифференциация, а расклад сил, сложившийся к 1906 г., не был изначально предопределен. Либерализм не вызывал в России начала ХХ в. резонансных дискуссий. Среди студенческой молодежи и на заседаниях Вольного экономического общества марксисты с народниками спорили о социализме» [ Соловьев , 2021 a , с. 191].
В. В. Шелохаев называет российскую интеллигенцию конца XIX – начала XX в. интеллектуальным меньшинством и отмечает, что для нее был характерен мировоззренческий плюрализм. Российская империя переживала тогда системный кризис, и представители мыслящей элиты предлагали разные модели выхода из кризисной ситуации. Именно они находились на руководящих позициях всех партий России. В интеллигентских кругах возникали идеологические противостояния, и в 1917 г. конфронтация в сфере интеллектуального меньшинства усилилась [ Шелохаев , 2017, с. 34]. Проявили себя расхождения внутри каждого направления политической деятельности: либерального, консервативного, социалистического. В частности, некоторые партийные объединения либерального сегмента распались, и была предпринята попытка создать новые структуры. Причем умеренные программы в рамках таких структур отсутствовали, высказывались радикальные требования по переустройству общества: о переделе земельной собственности, введении республиканского правления [Там же, с. 36]. В либеральной среде выделились либерально-консервативный полюс и либеральнорадикальное направление, представители интеллигенции также действовали в кругах либерального центристского толка.
А. В. Алексеев пишет о противоречиях, которые проявлялись в отношении государственного устройства империи и церкви со стороны разных слоев общества. В конце XIX – начале XX в. изменилось внутреннее состояние личности, ее духовно-нравственные особенности, в тот же период проявил себя государственный кризис [ Алексеев , 2018, с. 184]. Представители мыслящей элиты стали выразителями этих противоречий.
До сих пор дискуссионным остается вопрос: какова роль интеллигенции как участника этих исторических событий ‒ стороннего наблюдателя или же невольной жертвы трагической череды событий, которая изменила судьбы многих людей? Ответ на это вопрос можно найти, рассматривая изменения, которые произошли в структуре интеллигенции. Если сначала мыслящую элиту составляли аристократия, дворянство, то затем в интеллигентские круги стали входить разночинцы, представители разных страт, в том числе провинциальная и сельская интеллигенция. Практикующие врачи, провинциальные учителя, агрономы часто были связаны с земством. Постепенно интеллигенция Российской империи во многом отошла от либеральных идей, стала активным актором общественной жизни, оппозицией существующему строю, проявила свою бескомпромиссность.
Так, итальянский ученый С. Каприо подчеркивает, что большевики победили в 1917 г. из-за отсутствия надежных альтернатив. Идеология либеральной демократии оказалось бессильной в обществе того времени. В ней отсутствовали модели, способные разъяснить происходившие в обществе перемены и наметить пути выхода из кризисной ситуации. Хотя в сформированном после Февральской революции правительстве оказались образованные, авторитетные личности, их ждало полное поражение [ Каприо , 2018, с. 18].
После Февраля 1917 г., как пишет В. В. Шелохаев, в новой политической реальности эффективно действовало единственное либеральное политическое объединение – Конституционно-демократическая партия. Ее ряды пополнились теми общественными деятелями, которые ранее не поддерживали программу преобразования государства, предлагаемую кадетами, т.е. представителями правых либералов, консервативных политических кругов, центристов. Численность конституционных демократов возросла, имелись финансовые ресурсы; партийные материалы публиковались в прессе ‒ центральной и региональной [ Шелохаев , 2019, с. 37].
-
С. Каприо же обращает внимание на следующее обстоятельство: «В основе слабости кадетов и социалистов лежал серьезный недостаток: без царя больше не существовало оправдания власти. Революция была выиграна большевиками с анархистскими лозунгами: “Долой самодержавие!” и “Вся власть Советам!”, с идеей анархии и прямого управления власти, – следовательно, с определением не-власти как подлинной власти» [ Каприо , 2018, с. 18]. Напротив, представители либеральной интеллигенции не знали, какие нужны лозунги для мобилизации большинства населения государства, чтобы толпа последовала за ними. Истинным началом большевистского этапа революционных преобразований стал роспуск Учредительного собрания в начале 1918 г. [Там же].
Справедливости ради отметим, что в тот период в России были и более умеренные, нежели кадеты, представители либеральной интеллигенции: речь идет о партии октябристов. К. А. Соловьев, обращаясь к этой проблематике, отметил: «Среди октябристов были и либералы, и консерваторы. На определенном этапе они противостояли правительству. На другом – тесно с ним сотрудничали. Можно это объяснить аморфностью объединения. В том утверждении – несомненная правда» [ Соловьев , 2022, с. 104]. Давая характеристики лидерам партии, ее программным установкам, он делает нелицеприятный вывод: «По выражению Ф. Д. Самарина, октябристы были “либералами второго сорта”, “ублюдками либерализма”. Это было остроумно, ядовито, но неточно. “Союз 17 октября” был заведомо идеологически бесформенен..., что доказывал с момента основания и до распада» [Там же].
Отвечая на вопрос, какая революция победила в России, В. П. Булдаков утверждает: «Победила синергетика русского бунта, взывающая к “своей” власти» [ Булдаков , 2020, с. 18]. Произошло возрождение авторитарной власти, которой удалось удержаться. Либеральная интеллигенция показала свою политическую беспомощность, догматическую умозрительность без практического применения. Победил не марксизм, не народничество, хотя идеология новой власти включала в себя и то и другое [Там же].
Анализ современной историографии вопроса о либеральной интеллигенции в революционном процессе в Российской империи начала XX в. позволил выявить работы, в которых, во-первых, показано, что в целом модернистские идеи российской либеральной интеллигенции не нашли отклика в русском обществе и потерпели поражение, поскольку не вписывались в тра- диционные ценности, которыми жило большинство населения страны. Во-вторых, уточняется: либеральная интеллигенция стала в значительной мере сторонним участником революционного процесса, не сумев консолидироваться и адекватно ответить на вызовы времени. Одна из возможных причин этого – уход интеллигенции с пути образованных интеллектуалов в сторону оппозиции по отношению к официальной власти, тогда как изначально роль интеллигенции при ее появлении в ХIX в. заключалась в том, чтобы быть наиболее представительной частью русского общества, которая при этом формирует содержательные смыслы, идеи и цели, а также берет на себя полную ответственность за воплощение их в жизнь.
Список литературы Либеральная интеллигенция в российском революционном процессе начала XX века как предмет научного изучения
- Алексеев А.В. Духовно-нравственное состояние русского общества конца XIX - начала XX веков: историко-конфессиональный (православный) взгляд. 2-е изд. М.: Научная библиотека, 2018. 189 с.
- Антошин А.В. Русская интеллигенция на переломе эпох: поколение участников освободительного движения конца XIX - начала XX в. в России и эмиграции // Изв. Урал. федер. ун-та. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18, № 4 (157). С. 103-114. DOI: 10.15826/izv2.2016.18.4.068
- Большакова О. Кризис Российской империи 1890-1914 гг. в зарубежной историографии // Российская история. 2019. № 2. С. 158-171.
- Булдаков В. Марксизм, Ленин, революция: метаморфозы великой легенды // Российская история. 2020. № 2. С. 3-24.
- Булдаков В.П. К истории русской революции: отречение царя или восстание масс? // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. История России. 2017. Т. 16, № 2. С. 153-173. DOI: 10.22363/2312-86742017-16-2-153-173
- Возилов В.В. Принцип «цель оправдывает средства» в деятельности российской интеллигенции (XIX - начало XX века) // Интеллигенция и мир. 2019. № 1. С. 131-145.
- Возьмитель А.А. Становление и смыслы жизни советской интеллигенции // Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Изд-во РГГУ, 2019. С. 72-79.
- Гайда Ф.А. Представления о миссии «интеллигенции» в российской общественной мысли второй половины XIX - начала XX в. // Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. История. История русской православной церкви. 2020. № 95. С. 53-69.
- Гайда Ф.А. Либеральные партии и общественные организации // Российская империя между реформами и революциями, 1906-1916: коллектив. монография. М., 2021. C. 100-141.
- Гер О.Е., Ивановская А.Е., Сальников С.П. Развитие либерализма в России в начале XX века // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 7. С. 155-172.
- Глебова И.И. Особый путь русской революции // Полития: Анализ. Xроника. Прогноз. 2017. № 4 (87). С. 101-122.
- Гумерова Ж.А. Русская интеллигенция второй половины XIX - начала XX века и культура (сравнительно-исторический анализ) // Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее / под общ. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Изд-во РГГУ, 2019. С. 80-84.
- Жукова О.А. Россия в либеральной перспективе (к юбилею И.С. Тургенева) // Российский либерализм: итоги и перспективы изучения / под общ. ред. В.В. Шелохаева. Орел, 2018. С. 241-252.
- Каприо С. Перманентная революция (размышления о русской революции) [Электронный ресурс] // Новейшая история России. 2018. № 1. С. 8-28. URL: https://doi.org/10.21638/11701/ spbu24.2018.101 (дата обращения: 15.07.2023).
- Котеленец Е.А., Сергеева М.О. События 1917 года в воспоминаниях творческой интеллигенции серебряного века // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. История России. 2017. № 16 (2). С. 253263. DOI: 10.22363/2312-8674-2017-16-2-253-263
- Лавренов С.Я, Бритвин Н.И. Февральская революция 1917 года: причины и движущие силы // Научно-аналитический журнал обозреватель - Observer. 2017. № 3 (326). С. 69-89.
- Леонтьева О.Б. В чем же истинный либерализм? Российский либерализм рубежа XIX-XX вв. В зеркале отечественной историографии начала XXI в. // Прошлый век. 2013. Вып. 1. С. 187-222.
- Лубков А.В. Личность. История. Культура: статьи и выступления. М.: Изд-во МГПУ, 2020. 288 с.
- Никонов В.А. 1917 год: от февраля к октябрю // Русский мир.ги. 2017. № 11. С. 26-35.
- Петров Ю.А. Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историографические тенденции // Российская история. 2017. № 2 (37). С. 3-16.
- Рябов В.В., Токарева Е.А., Гусева Ю.Н. [и др.]. Феномен российской интеллигенции конца XIX -начала XX века. М.: Онто-Принт, 2020. 204 с.
- Соловьев К.А. Парадоксы российской партийности: октябристский случай // Государственная дума и революция: сб. науч. тр. к 60-летию А.Б. Николаева. Рязань, 2022. С. 101-119.
- Соловьев К.А. Политический сыск и либеральное движение // Российская история. 2021а. № 2. С.189-192.
- Соловьев К.А. Политическая система Российской империи в 1881-1905 гг.: проблема законотворчества. М., 2018. 351 с.
- Соловьев К.А. Представительные учреждения и правительство: взаимодействие и конфликт // Российская империя между реформами и революциями, 1906-1916: коллектив. монография. М., 2021b. С. 21-72.
- Шелохаев В.В. Переформатирование партийного пространства в России в 1917 г. (историографические итоги и исследовательские задачи) // Российская история. 2017. № 2. С. 32-41.
- Шелохаев В.В. Либерализм в России - перспективы изучения: политико-правовые практики российского либерализма в начале ХХ в. // Муромцевские чтения. Труды - III (2009-2018) / под общ. ред. Д.В. Аронова. Орел: ОРЛИК, 2019. С. 7-20.
- Шелохаев В., Соловьев К. Февраль в тени Октября (историографические итоги и исследовательские задачи) // Российская история. 2018. № 1. С. 161-171.
- Щипков В.А. Постсекулярная речь. Ценностное измерение современных культурных и политических процессов. М.: МГИМО-Университет, 2019. 302 с.