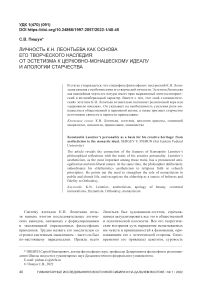Личность К.Н. Леонтьева как основа его творческого наследия: от эстетизма к церковно-монашескому идеалу и апологии старчества
Автор: Пишун Сергей Викторович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Константин Леонтьев: Цветущая сложность. К 190-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье утверждается, что специфика философских построений К.Н. Леонтьева связана с особенностями его творческой личности. Эстетизм Леонтьева как важнейшая черта его натуры имеет ярко выраженный антиэгалитаристский и антилиберальный характер. Вместе с тем, этот свой «эллинистический» эстетизм К.Н. Леонтьев сознательно подчиняет религиозной вере или «церковным началам». Он указывает на необходимость усиления роли монашества в общественной и церковной жизни, а также признает старчество источником святости и верности православию.
К.н. леонтьев, эстетизм, апология красоты, «внешний аморализм», византизм, православие, монашество
Короткий адрес: https://sciup.org/170195077
IDR: 170195077 | УДК: 1(470) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-1/40-45
Текст научной статьи Личность К.Н. Леонтьева как основа его творческого наследия: от эстетизма к церковно-монашескому идеалу и апологии старчества
Систему взглядов К.Н. Леонтьева нельзя назвать итогом последовательных логических выводов, связанных с формулированием и экспликацией определенных философских принципов. Трудно назвать его мыслителем со строгим системным мышлением – часто он был по-настоящему парадоксален. Прежде всего
Леонтьев был художником-эстетом, стремившимся актуализировать все это в общественной и политической плоскости. Все его теоретические воззрения суть выражение испытываемых им чувств и привязанностей к феноменам, привлекавшим его с эстетической стороны. Одновременно его привлекал аскетизм, суровость жизни монашества, что вылилось, в конечном итоге, в теоретическом плане – в формулировку им принципа «византизма», а в житейском – в желание подчинить свои эстетически-страст-ные наклонности вере, что привело к уходу самого Леонтьева в Оптину пустынь и тайному постригу. Дворянская Россия породила особую культуру, отличающуюся «прелестью» и утонченностью. Леонтьев в своем творчестве отражал сам дух этой культуры, остро и зачастую враждебно реагировал на приход разночинцев с их подчас грубым утилитаризмом, расходясь с православием и одновременно смиряясь перед духом христианства.
Именно эстетизм являлся важнейшей чертой натуры Леонтьева: он просто преклонялся перед всем изящным, красивым, обладавшим жизненной силой. Мыслитель обнаруживает в себе чуткого наблюдателя, он часто был весьма внимателен к мелким событиям и фактам, которые могли укреплять или нарушать всеобщую гармонию. Эти эстетизм и внимательность Леонтьев приобрел еще в детстве, находясь в православном храме во время богослужения. Все это уже в молодости он переносил и на яркие политические события. Так, революции и республики нравились Леонтьеву не из-за их лозунгов, программ, вроде обещания экономического и социального равенства и благополучия, а в силу свойственного им драматизма, или, как он сам отмечал, «живописности» [13, c. 46]. Не случайно он испытывал симпатию к литературному наследию и личности И.С. Тургенева, который, как указывал Леонтьев, оказался «героичнее своих героев» [13, c. 78]. Собственно, К.Н. Леонтьев отвечал на те вопросы, которые поставил И.С. Тургенев, и, будучи эстетом по натуре, не мог переносить культурных «упрощений» и самого образа жизни разночинцев-героев тургеневских романов, вроде Базарова. Еще один, возможно, неожиданный предшественник Леонтьева – А.И. Герцен, для которого также характерен эстетизм и широта натуры, преклонение перед всем изящным и величественным и отвращение ко всему пошлому и посредственному. Оба писателя и философа, при всем своем кардинальном расхождении по вопросам общественного развития, были столь солидарны в своем неприятии посредственного, что доходили иногда до словесных совпадений. Сам Леонтьев так характеризовал свое идейное родство с Герценом: «Герцен издевался прямо над общим и подавляющим типом человече- ского развития. И последуя за ним по сходству “природы”, я придумал позднее и выражение “средний человек”, “средний европеец” и т.д.» [10, с. 336]. Нападки и насмешки А.И. Герцена над европейской буржуазией и мещанством К.Н. Леонтьев находит справедливыми и полезными и в этом полагает его главную заслугу перед русским обществом и русской литературой [14, c. 264].
Ядром миросозерцания Леонтьева является как раз чувство прекрасного. Красота для него была высшим проявлением жизни, она есть «основа идеи жизни, для которой мир явлений служит только смутным символом» [12, c. 6]. Красота в его понимании сама по себе является истиной, придающей смысл предмету, определяющей его значение. Он выработал парадоксальное утверждение – чем совершеннее какое-либо из проявлений мировой жизни, тем сложнее его истина и непонятнее красота, но зато тем сильнее и могущественнее она действует на культурно развитого человека [12, с. 24–25]. Основной и универсальный закон красоты Леонтьев в одном из своих писем к своему другу, священнику И. Фуделю обозначает как «разнообразие в единстве» [14, c. 275]. Нарушение этого закона тождественно дезорганизации в природе и знаменует в конечном счете внутренний кризис и гибель предмета. Но, при всем драматизме внешних изменений и превращений, в понимании Леонтьева мир беспрерывно продолжает свое бытие. Убыль в одном месте компенсируется приростом в другом. Жизнь сочетается со смертью, разрушение – с возрождением, и в этом круговороте заключается вся суть бытия. При этом в происходящей смене идея красоты остается неизменной, она лишь приобретает различные виды и формы. Действие текущих проявлений красоты дополняется и увеличивается воспоминанием о прошлых исчезнувших ее формах. В этом смысле красота не просто вечна, а растет, когда, как пишет Леонтьев, она по мере отдаления во времени прибавляет к своей самобытной структуре еще мысль о погибших прошлых ее формах «горячей и полной жизни» [12, с. 14]. Поэтому, полагает мыслитель, следует дорожить красотой, беречь ее, поддерживать и насаждать вокруг себя. Неслучайно поэтому Леонтьев устами одного из своих литературных героев провозглашал, что «целью нашей жизни является богатство идей» [8, с. 396], «прекрасное – вот цель жизни» [8, с. 414], «поэзия есть высший долг» [8, c. 298]. Прекрасное при этом остается самодостаточной целью, которая стоит выше всего остального: «Прекрасное – само по себе цель» [8, с. 304]. Леонтьев в этой апологии красоты доходит до «внешнего аморализма», восклицая: «Все хорошо, что прекрасно и сильно; будь это святость, будь это разврат, будь это охранение, будь это революция, – все равно!» [4, c. 265].
Таким образом, красота в понимании Леонтьева есть единственно ценное в жизни. Ее всеобщим и необходимым критерием он называет чувство изящного и прекрасного: «Прекрасное – верная мерка на все» [8, с. 304]. Или, как он еще пишет: «Критерий всему должен быть не нравственный, а эстетический» [13, c. 120]. Леонтьев по существу отрицает моральные ценности как таковые, утверждая, что добро и зло суть лишь проявления прекрасного: «Нравственность есть только уголок прекрасного» [8, с. 282]. Можно привести еще ряд его мыслей, подтверждающих нарочито декларируемый своеобразный «внеморальный эстетизм»: «Нет ничего безусловно нравственного, а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле… Что к кому идет» [13, с. 119–120], «добрая нравственность и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество добра» [8, с. 414]. Леонтьев признавался, что ему «дороги в жизни не только трезвые, не только хорошие и добропорядочные люди, сколько люди выразительные» [12, с. 84]. Часто факты безнравственные приводили его в восторг и восхищение своей внешней красивой формой. И потому неудивительно его признание, что «сам Нерон мне дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого-нибудь другого простого и доброго человека» [13, с. 190]. Более того, Леонтьев ставил прекрасные и величественные явления мертвой природы выше обыкновенного, посредственного человека. Через своего литературного персонажа Милькеева он говорит, что «одно столетнее величественное дерево дороже двух десятков безличных людей» [8, с. 306]. Такими редкими экземплярами растительного мира он не пожертвовал бы для того, чтобы приобрести лекарства и тем самым спасти от смерти больного мужика. Здесь надо отметить откровенность мыслей Леонтьева, его правдивость перед самим собой. Он не лицемерит, пишет с предельной прямотой. Так, он заявляет, что, хотя Юлий Цезарь и Скобе- лев были развратнее и безнравственнее Акакия Акакиевича и многих честных и скромных тружеников, однако, как он считает, «в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в этих честных, но безличных людях» [8, с. 271]. Леонтьев здесь не боится вступить в конфликт не только с моралью, но и с религией и политикой. Например, с позиций эстетизма разнообразие жизни является благотворным фактом и должно всячески поддерживаться, вместе с тем христианство и либеральный прогресс подавляют и уничтожают это многообразие. Тем не менее, Леонтьев резко разводит христианство и либерализм, считая, что надо подчиниться первому как носителю высших смыслов и отвергнуть второе: «…Находя эстетическое разнообразие жизни благим, мы, из трансцендентного эгоизма, из страха загробных мучений, в целях спасения души, должны содействовать христианству в его уравнительной тенденции. Напротив, современный эгалитарный прогресс, с его нивелирующим характером, должен встретить в нас самый жестокий отпор» [6, с. 419]. Здесь можно привести еще одну цитату Леонтьева: «Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, я – благоговею, я склоняюсь, чту и люблю; когда эту таинственную, необходимую для полноты жизненного развития поэзию побеждает утилитарная этика, – я негодую и от того общества, где последнее случается слишком часто, уже не жду ничего» [14, c. 272]. Внутренняя, «эллинистическая» сторона личности Леонтьева смирялась перед религиозной верой, он веровал даже «вопреки целой буре внутренних протестов» [2, c. 537].
Одновременно с эстетизмом Леонтьев рьяно защищает церковные начала в общественной жизни. Он не приемлет государственное влияние в церкви. Нормальный церковный порядок, как отмечает мыслитель, не в «папоцезаризме», а в будущем и ожидаемом им «соборно-патриаршем устройстве»: «Это будущее устройство и с духом нашей церкви сообразнее, и в нем могло быть и нечто всеобще-реальное, органическое» [11, с. 310]. Церковь, как отмечает Леонтьев, должна быть внутренне централизованной и одновременно должна быть независимой и свободной по отношению к государству. Такая независимость будет полезной как для церкви, так и для самого государства в силу того, что она укрепит находящееся в настоящее время в перманентном кризисе православие, и тогда церковь «в совокупности своей станет несокрушима» [11, c. 556]. Сильная и целеустремленная, церковь в лице клира может оказать существенную помощь государственным и политическим институтам в процессе их формирования или реформирования, даже может спасти государство в момент его серьезного кризиса, в том числе «от каких-нибудь анафемских новых либеральностей» [5, c. 444], тем самым якобы оградив его от дальнейшего разложения.
Но, как указывал Леонтьев, церковь тоже может быть «размягчена» изнутри. Поэтому для ее крепости, полагал философ, необходимо усилить власть и влияние монашествующего духовенства . Христианство далеко от учреждения земных удобств и земного благоденствия. В основе оно есть «безустанное понуждение о Христе» и «религия самобичевания» [1, c. 28]. При этом монаха вовсе не следует считать каким-то исключительным, необыкновенным человеком. Изначально монашество не было христианской заповедью и поэтому непринятие его и уклонение от монашества не считается грехом и не наказывается церковью. Настоящее монашество есть, как отмечал К.Н. Леонтьев, «добровольное хроническое мученичество во славу Божию» [10, с. 335], и «нудящие себя только восхищают Царство Небесное» [1, c. 29]. Инока всегда будет ожидать внутренняя борьба, не исключены ошибки и падения, разочарования и угрызения совести (см.: [3, с. 28]). В самом аскетизме, писал философ, «все приятное и утешительное не от нас, а от Бога; от нас все принудительное, самоограничивающее» [10, с. 335]. В его понимании «монашество есть цвет христианства» [1, c. 30], его «высокий идеал» [11, с. 404], «крайнее выражение православного отречения» [3, c. 36]. По мнению К.Н. Леонтьева, без института монашества церковь жить не может (см.: [1, c. 30]).
Таким образом, Леонтьев признает монашество существенным, необходимым и ключевым элементом в сложной системе церковных учреждений. Философ настолько высоко ценит монашество, что считает религиозное воспитание человека незаконченным, если он не знает и не изучал иночества, «не искал общения с истинно духовными подвижниками» [11, c. 390]. В монастырях любой человек прежде всего усвоил бы правильный взгляд на земную жизнь и на ее отношение к загробной, небесной жизни. Как замечает философ, монахи в большинстве своем пессимисты относительно земной жизни [11, с. 109], они учат и советуют «прежде всего себе внимать, о своем загробном спасении заботиться, а все остальное приложится» [11, с. 383]. Такое мировоззрение Леонтьев считает прямой противоположностью современной вере либералов в эгалитарный прогресс и их надеждам на земное счастье, поэтому, полагает он, монашество имеет особые заслуги перед государством: «Монастыри есть неподвижные звезды церкви, от которых далеко льется свет на весь православный мир» [3, с. 31]. К.Н. Леонтьев проводит интересную аналогию: монастыри для церкви и религии в целом есть то же, что университеты, лицеи, клиники для науки [9, с. 300]. Но насколько более значимыми являются сами по себе религиозные истины, чем истины научные, настолько же монастыри важнее университетов и школ вообще. Леонтьев прямо заявляет: «В наше время основание сносного монастыря полезнее двух университетов и целой сотни реальных училищ» [11, с. 384]. Поэтому государство должно в целях собственного сохранения и укрепления поддерживать не просто церковь, а именно монашество, проявлять заботу о монастырях. Причем монашество нужно и для укрепления христианской семьи. К.Н. Леонтьев указывает, что, собственно, брак основывается как раз на самоотречении и взаимном ограничении супругов и в этом смысле семья есть лишь «смягченное монашество; иночество вдвоем, или с детьми учениками» [3, с. 35]. В данном контексте, «без монастырей, без этих скопищ, так сказать, крайнего отречения пали бы последние основы для поддержки того среднего отречения, которое необходимо для хорошей семьи» [3, c. 36]. В трактовке К.Н. Леонтьева, без религиозной мистики семья превратилась бы в прозаическую и скучную сделку, что было для философа неприемлемым в силу его романтической натуры.
Особого внимания Леонтьева заслуживало старчество как своеобразная квинтэссенция монашества. Он отмечал, что «цвет христианства – монашество, цвет монашества – старчество», суть которого состоит в «искреннем духовном отношении духовных детей к своему духовному отцу или старцу» [1, c. 37]. Практика старчества не есть исповедь, а есть «простая и полнейшая откровенность послушника с духовным руководителем своим, старцем» [10, c. 336]. Поэтому старцами могут быть часто лица, даже не облеченные священным саном и тем более не имеющие полномочий настоятеля монастыря. Леонтьев высказывал свое восхищение тем, что пришедший к концу XVIII в. в упадок институт старчества был восстановлен в России выдающимся православным мистиком Паисием Величковским, а затем через его ученика Феодора этот вид монашеской жизни был передан иеросхимонаху о. Леониду, с именем которого связано начало истории старчества Оптиной пустыни. Преемниками о. Леонида были о. Макарий, о. Илларион и умерший в 1891 г. о. Амвросий (см.: [1, c. 38–42]). Леонтьев, как ранее И.В. Киреевский, считал для себя экзистенциально важным приобщиться к этому источнику святости и верности заповедям православия, чем и объясняется его желание жить недалеко от Оптиной пустыни и последующее его тайное пострижение.
Список литературы Личность К.Н. Леонтьева как основа его творческого наследия: от эстетизма к церковно-монашескому идеалу и апологии старчества
- Леонтьев К.Н. Отец Климент Зедергольм // Русский вестник. 1879. № 11.
- Леонтьев К.Н. Отец Климент Зедергольм // Русский вестник. 1879. № 12.
- Леонтьев К.Н. Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь. (Четыре письма с Афона) // Начала. 1992. № 2. С. 19-41.
- Леонтьев К.Н. Письма к А. Александрову // Русский вестник. 1894. № 4.
- Леонтьев К.Н. Письма к К.А. Губастову // Русское обозрение. 1896. № 11.
- Леонтьев К.Н. Письма к В.В. Розанову // Русский вестник. 1903. № 6.
- Леонтьев К.Н. Письмо о старчестве // Русское обозрение.1894.№ 10.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 1: Романы и повести. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 5: Восток, Россия и славянство. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 6: Восток, Россия и славянство. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 7: Восток, Россия и славянство. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 8: Критические статьи. М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
- Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 9: Воспоминания (1831-1868). М.: Издание В.М. Саблина, 1912.
- Фудель И. Культурный идеал К. Леонтьева // Русское обозрение. 1895. № 1.