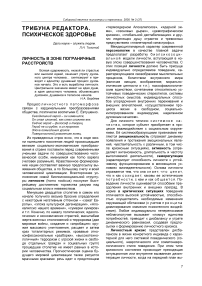Личность в зоне пограничных расстройств
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 3 (37), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14295088
IDR: 14295088
Текст статьи Личность в зоне пограничных расстройств
Всякая одержимость, низкой ли страстью или высокой идеей, означает утрату духовного центра человека… синтезирует и приводит к единству душевный процесс духовное начало. Это и есть выработка личности. Центральное значение имеет не идея души, а идея целостного человека, объемлющего духовное, душевное и телесное начала.
Н.А. Бердяев
Процесс л и ч н о ст н о го п ато м о рф оз а связан с кардинальными преобразованиями общества, поэтически воспетыми Е. Евтушенко.
Сегодняшний герой – он изменился, Он стал сложней, как стал сложнее век. Сейчас герой – философ и творец, Герой не из рубак, а из пророков.
Эпоха осмысления уроков Поверхностной романтике конец.
Из приведенных строк ясно, что в ходе жизни нынешнего поколения людей произошедшие великие социально-экономические преобразования в стране поставили перед современными учеными задачи по совершенствованию человеческой особи, именуемой как homo sapiens (человек разумный). Нравственное формирование нации составляет важную предпосылку выживания общества, а по большому счету и всей человеческой цивилизации. Всестороннее усложнение новой биопсихосоциальной структуры личности (homo nocticus) послужит быстрейшему достижению торжества разума над социальным злом и невежеством.
Минувшее двадцатое столетие в самом его начале получило весьма броские определения с некоторым негативным оттенком – «закат Европы», «эпоха культурной дегенерации», «Апокалипсис нашего времени», «сумерки кумиров» и т.п. Конечно, по накалу политических, идеологических и экономических страстей, масштабам жертв военных столкновений и терроризма (две мировые войны, создание и «апробация» оружия массового уничтожения, расцвет и затем крах тоталитарных режимов, кровавые этно-конфессиональные «разборки», «высокотехнологичный» терроризм с угрозой жизни и свободе отдельных граждан и социальных групп) прошедшее столетие не имеет равных в истории человечества. Прогностическая оценка будущего мировой цивилизации также рисуется мрачными красками: речь идет о предстоящем
«термоядерном Апокалипсисе», «ядерной зиме», «озоновых дырах», «демографическом кризисе», «глобальной дестабилизации» и других леденящих душу страстях и тревожных предчувствиях «планетарной катастрофы».
Междисциплинарный характер современной персонологии в качестве главной задачи предполагает разработку б и о п с ихосо ц и-ал ь н о й модели личности, вступающей в новую эпоху совершенствования человечества. С этих позиций личности должно быть присуще индивидуально определяемое поведение, характеризующееся своеобразием мыслительных процессов, богатством внутреннего мира (включая эмоции, воображение, моральноэтические ценности и т.п.), психофизиологическим единством, сочетанием относительно устойчивых поведенческих стереотипов, системы личностных смыслов, индивидуальных способов упорядочения внутренних переживаний и внешних впечатлений, «осуществлением процесса жизни в свободном, социальноинтегрированном индивидууме, наделенном духовным началом».
Для личности типично с и сте м н о е ка-ч е ст в о, которое субъект приобретает в процессе взаимодействия с социальным окружением. Её системообразующими признаками являются эмоциональность (отражает динамику появления и протекания эмоциональных явлений, чувствительность к различным, в том числе кризисным ситуациям), активность (определяет интенсивность, длительность и частоту выполняемой деятельности), саморегуляция (характеризует способность личности к устойчивому функционированию в меняющихся условиях жизнедеятельности). Основа личности отражается тем, что она з н а е т, ч то ц е нит, что и как соз ида е т, каковы ее эстетические п отреб ности, с кем и как об щается. Поведение личности оценивается способами преодоления внутренних и внешних преград. В норме в критических ситуациях поведение отличается высокой устойчивостью, способностью осуществлять необходимые изменения окружающей обстановки (с учетом п р и н ц и п а доминирования значения психогенного воздействия). Любое индивидуально непереносимое неблагополучие вызывает «ломку» единства потребностей, приводит к дисбалансу и утрате динамического равновесия, создавая предпосылки к формированию личностного кризиса.
Личностный кризис представлен дисбалансом в жизни конкретного индивида с характерной для него системой поведенческого (социального), невротического или соматоневро-логического стиля поведения. При этом типе кризисного состояния происходит преходящая ситуационная или внутренне вызванная дезинтеграция личности, когда на передний план вы- ступают нарушение адаптативности, целостности и сбалансированности, утрата прежней витальности, коммуникативности, творческой активности. Персонологическая динамика в ходе кризиса осуществляется в цепочке «нормальная, гармоническая ^ акцентуированная ^ невротическая ^ препсихопатическая ^ психопатическая ^ психопатизированная (постпсихотическая)». Для клинической и психологической дифференциации в приведенном континууме могут быть использованы ставшие классическими критерии П.Б. Ганнушкина, использующие комплекс клинических, нейрофизиологических и социально-психологических параметров психопатий и социопатий.
Актуальной задачей в области персонологии признано установление границ между бесчисленным множеством личностных особенностей. Клинический опыт свидетельствует о целесообразности выделения шкалы личностной характеристики, предусматривающей постепенный переход от нормальных вариантов к состоянию субнормы (акцентуация характера), далее - к препсихопатической и, наконец, к психопатической структуре. Акцентуированные личности мы понимаем как здоровые натуры, но находящиеся на грани субнормы. Заострённость отдельных характерологических черт в индивидуально-непереносимых ситуациях способна снизить адаптационные возможности личности, стать почвой для внутри- и межличностных конфликтов. Препсихопатическая личность характеризуется нестойкостью, изменчивостью аномальных черт, отличается выраженностью патологических качеств до степени нарушения адаптации, тотальностью эмоционально-волевых нарушений, их относительной стабильностью и малой обратимостью. Следует иметь в виду эволюцию индивида в условиях меняющегося социального окружения, поскольку обособленный человек «с его стойкой самодостаточной системой ценностей быстро уступает место общинному, т.н. во вне направленному человеку с мятущейся душой, тщётно пытающемуся осознать свою личность» (Александер Ф., Солесник Ш., 1995)1.
Классификация личностных проявлений не осуществима в отрыве от теоретикометодологических проблем современной пер-сонологии, преимущественно её клинической ветви. Её научная разработка посвящена выяснению сложных причинно-следственных взаимосвязей, проведению практической лечебнодиагностической работы, повышению качества социокоррекционных вмешательств. Идеологической базой для такой работы могут служить теория и методология валеопсихологии и кли- нической психологии, раскрывающих тип личности в нозологических понятиях (единица, варианты и т.д.). Однако при этом следует помнить замечание К.А. Тимирязева о том, что «вида, как категории строго определённой, всегда себе равной, в природе не существует». Преодоление существующих трудностей в области систематики здоровых и патологических вариантов характера становится возможным благодаря их многостороннему системному анализу. Отправной точкой в такой работе является, по нашему глубокому убеждению, клинико-патогенетическая группировка пограничных состояний (Семке В.Я., 1978, 1987, 1999) с последующей экстраполяцией полученных результатов на зону нормальной персонологии.
В каждой из выделенных четырёх групп пограничных состояний (невротической, патоха-рактерологической, неврозоподобной, психопатоподобной) отмечаются общие клинические закономерности формирования личностной патологии, проходящей последовательные стадии. Особенно важно отметить этап предбо-лезни , на котором происходит появление аномальных, недифференцированных в своём содержании личностных реакций, клинические проявления которых отражают ранний, «доно-зологический» период развития заболевания. В обобщённом виде можно говорить о двух типах «предболезненных» состояний. В первом случае имеет место «истинный» вариант предбо-лезни, когда диагноз опережает заболевание (с интуитивным «схватыванием» отдельных проявлений грядущей дезадаптированности личности). Во втором «условном» варианте патологические изменения обнаруживаются специальными методами дополнительного обследования. Приводимая шкала личностных характеристик охватывает патохарактерологические реакции, состояния, развития и «резидуа», или тип психопатии.
Первые из них выражаются резким усилением привычного способа реагирования на средовые вредности, не выходящие за пределы личностных ресурсов индивида. Б.В. Шостакович (1971) и Л.В. Гусинская (1979) выделяли однозначные и неоднозначные психопатические реакции. Мы подразделяем (Семке В.Я., 1976) их на гомономные (с клиническими проявлениями, свойственными данному или грядущему складу психопатии) и гетерономные (когда преобладают симптомы, присущие другому кругу психопатий). С учетом динамических показателей выделяют острые, подострые и затяжные реакции. После устранения психотравмирующей ситуации происходит постепенное восстановление личностного облика.
Патохарактерологическое развитие личности (по О.В. Кербикову) обусловлено воздействием длительно существующих микросоциаль- ных влияний (в первую очередь дефектов воспитания). По сути дела, речь идёт о неблагоприятной динамике характерологических девиаций (с формированием соответствующего типа приобретенной психопатии). Вместе с тем при позитивном влиянии микросреды постепенно достигается противоположный (в прогностическом отношении) вариант динамики в виде сглаживания, а затем и полного устранения психопатического облика (процесс «депсихо-патизации», описанный И.Л. Кулёвым в 1963 году). При систематике психопатий за основу целесообразно взять этиологический принцип, в соответствии с которым они подразделяются на три патогенетические подгруппы: «ядер-ную», конституциональную (с определяющей ролью наследственных факторов и ранним обнаружением психопатического склада); «краевую», нажитую с промежуточным этапом её формирования в виде патохарактерологическо-го развития личности; «органическую».
В определении расстройств личности в последние годы произошли заметные изменения. Термин «психопатия» был упразднен, а шизотипическое расстройство отнесли к рубрике шизофренических расстройств. В качестве самостоятельной рубрики были выделены «психологические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным развитием и ориентацией». Термин «тревожный» в данном контексте соответствует понятию «уклоняющийся» и др. В целом врач, определяющий диагноз, должен избежать распространенной ошибки, которую К. Ясперс (1963) назвал «псевдопониманием через терминологию». Врачу-психиатру не следует впадать в заблуждение, относя личность к той или иной категории классификации, не следует преждевременно уверовать в свое полное понимание проблем больного.
Перемена научных парадигм в современной персонологии происходит параллельно со сменой веков в календаре истории; и в ближайшем будущем нас ожидает «лавина» новой личностной и невротической патологии, протекающей по преимуществу на донозологическом и экст-ранозологическом уровнях.
Диагностика личностного кризиса сопряжена с последующей социально-психологической, психокоррекционной и психотерапевтической работой в отношении разных (по генезу и динамике) популяций и групп (инвалиды, социальные сироты, пожилые лица, пациенты с хронической психической или аддиктивной патологией, девиантные личности). Все эти социально уязвимые группы населения наиболее чувствительны к происходящим экономическим катаклизмам и остро нуждаются в поддержке как на глобальном государственном уровне, так и взаимодействия в системе «клиент-врач», «клиент-социальный работник». Оба направле- ния предусматривают профессиональное грамотное разрешение личностных проблем лиц, оказавшихся в кризисной ситуации (безработные, бизнесмены, пенсионеры, беженцы, инвалиды, малообеспеченные и многодетные семьи). Многообразные кризисные состояния, в свою очередь, можно подразделить на: 1) вызванные острыми ситуационными изменениями и преобразованиями переходного периода (экономического, половозрастного, профессионального и т.п.); 2) связанные с катастрофами, болезнями, несчастными случаями и пр. Выделяют два типа кризисных ситуаций: обусловленные изменениями в естественном жизненном цикле (возрастные сдвиги, обучение, трудоустройство, уход на пенсию и т.д.) или вызванные непредвиденными психотравмирующими влияниями (семейные конфликты, тяжелые болезни, финансовые неурядицы и катастрофы). Происходящие в процессе кризисной ситуации сдвиги бывают позитивны лишь на начальных стадиях динамики (эффект активации, усиления адаптационных возможностей, поддержания социобиологического равновесия). При длительном протекании соответственно возрастает риск «срыва» адаптационноприспособительных механизмов, истощения энергетического потенциала личности, формирования астенодепрессивных реакций. Это определяет необходимость своевременного и оптимального разрешения социальнопсихологических «составляющих» личностного кризиса - решения проблем идентификации, расширения способностей свободы выбора, нахождения внутренних ресурсов и позитивных мотиваций.
Сущность духовного кризиса индивида определяется конкретной патогенной ситуацией, возникающей в связи с проблемами познания и доверия, которые целесообразно рассматривать в контексте историко-этнической специфики российского менталитета, предотвращения регресса этнической культуры и ослабления социальной инфраструктуры. Вызываемые при этом патофизиологические процессы на первых порах имеют общечеловеческое (культуральноисторическое) содержание, лишь постепенно обретая личностно-значимое содержание реакции на травматический стресс.
Проблема «тождественности личности», стремление познать ее границы и возможности является следствием психологического климата «общества потребления» с его углублением конфликтов, о б о с т р е н и е м кризисных ситуаций, которые оно порождает своими социальными противоречиями и уродливой бездуховностью. Любовь и дружба становятся альтернативой в общей разобщенности людей, спасительным убежищем человека в череде нескончаемых конфликтов современного мира.
Объектом внимания специалистов разных научных дисциплин является человек, переживающий личную драму и находящийся на грани самоубийства. К этим вопросам столь естественно примыкает проблема сиротства с порождаемым им трагическим од и н оч е ст в ом в социальном мире – через воображение, фантазии человек должен научиться противостоять обыденным, серым жизненным явлениям.
Драматичность уход а человека из жизни порождает ощущение познания ц ел и человеческого существования, таит потенциальные возможности для н о в о й жизни, помогает обрести путь для н р а в ст в е н н о го преобразования. Прав Томас Манн в своем утверждении, что «Болезнь – это не буржуазная форма здоровья». Переживание невыносимых трудностей ведет к духовному спасению личности и человечества (благодаря любви, доброте, помощи другого человека – «социальный костыль» облегчает выход из замкнутости). Вместе с тем экстремальная ситуация повсеместно распространяющегося те р р о р а определяет необходимость выбора правильного пути (затрагивая не только личные, но и социальные группы). «Смерть не страшна для того, кто нашел свое место в жизни, а значит, и познал цель человеческого существования» (Весос Т., 1968). Другой моделью переживания душевного кризиса в экстремальной обстановке является потрясение от природных катастроф, к примеру, когда землетрясение неожиданно, но неотвратимо вторгается туда, где ранее царило постоянство мира и благоденствия (обломки, трупы, случайно выжившие, раненые – «все раскололось», «кардинально поменялась жизнь»).
В жизни каждого человека существует главная задача – познать себя самого, между тем под влиянием тяжелой стрессогенной обстановки обычные физиологические ощущения приобретают измененное, порой угрожающее содержание, что служит основой для зарождения внутреннего беспокойства, неожиданной тревожности и страха. В такой ситуации утрачивается возможность адаптивного реагирования на меняющиеся условия, умелого освоения новых информационных сигналов (наряду с неспособностью интегрировать психотравмирующую ситуацию и повторным отыгрыванием травмы). Этим объясняется феномен « ревиктимизации », когда перенесшие насилие объекты вновь становятся жертвами сексуальной агрессии.
Переживание личностью кризисного состояния как глубокого психологического потрясения рассматривается в последнее время с позиций синергетики – науки о самоорганизации, предусматривающей сотрудничество, согласованное действие, соучастие, облегчающей исследование смежных адаптивных систем. По сути дела, она составляет новый способ познания мира, универсальную теорию поведения. Речь идет о перегруппировке, переконстелляции элементов духовного мира человека, когда происходит характерный лич н о ст н ы й сдвиг представлений на уровне «перестройки нейронных сетей, обеспечивающих течение психологических процессов»2. Феномен са моо р-га н и зо в а н н о й кр ит и ч н о ст и приводит к флюктуации, играет роль пускового механизма или «последней капли». Жизненный путь каждого человека содержит цепь моментов решающего выбора, б и фур ка ц и й (в виде развилки дорог эволюции), когда сложные адаптивные системы постоянно эволюционируют к «краю хаоса». В рамках тео р и и ката строф и самоорганизованной критичности создана модель кооперативного поведения как нового способа видения мира (Bak P., 1997).
В условиях противоречивых и непредсказуемых общественных преобразований, нестабильности межчеловеческих отношений конкретная личность сталкивается с проблемой рационального включения в новую с о ц и а л ь-н ую с и туа ц и ю при желаемом сохранении своего статуса, целостности и стабильности. В соответствии со взглядами Э. Эриксона, психосоциальная идентичность составляет внутреннюю предпосылку, позволяющую индивиду «настраиваться» на новые условия, сохраняя при этом свою непрерывность и автономность. Социальная идентичность определяет когнитивно-мотивационное ядро личности, меняющееся под влиянием окружающих об-стоятельств3. Она тесно связана с социальной ролью, позицией или статусом. Кризис идентичности представляет собой специфическую ситуацию сознания, когда большинство социальных характеристик, определяющих место индивидуума в обществе, кажутся утратившими свои былые границы и ценность (Андреева Г.М., 2000). В известной мере он отражает несоответствие сложившейся идентификационной системы личности изменившимся требованиям реальности, актуализирующей выбор новой идентичности. Условием выхода из этого кризиса следует считать становление и последующее развитие профессионально-деловой идентичности личности.