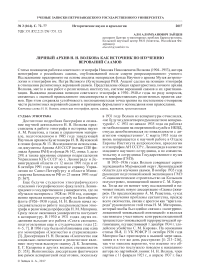Личный архив Н. Н. Волкова как источник по изучению верований саамов
Автор: Зайцев Али Алимханович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 3 (164), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена работам советского этнографа Николая Николаевича Волкова (1904-1953), автора монографии о российских саамах, опубликованной после смерти репрессированного ученого. Исследование предпринято на основе анализа материалов фонда Научного архива Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Акцент сделан на позиции этнографа в отношении религиозных верований саамов. Представлены общая характеристика личного архива Волкова, место в нем работ о религиозных институтах, системе верований саамов и их христианизации. Выявлена динамика позиции советского этнографа в 1930-1940-е годы по ряду вопросов, связанных с оценкой православного миссионерства и внехристианских религиозных практик саамов. При этом сохраняла устойчивость эволюционистская точка зрения на постепенное отмирание части религиозных верований саамов и признание формального исповедания ими православия.
Н. н. волков, советская этнография, архив, саамы, верования, христианизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14751185
IDR: 14751185 | УДК: 351.852.2:21/29(=551.12)
Текст научной статьи Личный архив Н. Н. Волкова как источник по изучению верований саамов
СУДЬБА ЭТНОГРАФА
Достаточно подробная биография и описание научной деятельности Н. Н. Волкова представлены в работе этнографа и историка науки А. М. Решетова, а также в справочном материале, подготовленном в 1985 году заведующей Научным архивом Кунсткамеры И. В. Жуковской к описи фонда № 13. Исследователи использовали документы Архива АН СССР (позже СПб филиала Архива РАН) из фонда № 142, опись 5, дело 249, а также архивные справки подразделения Управления КГБ СССР по г. Ленинграду и Ленинградской области от 12 июля 1991 года и от 8 октября 1991 года и архивную справку Управления по Санкт-Петербургу и области Министерства Безопасности РФ от 23 июня 1993 года1 [5: 367].
Еще будучи студентом этнографического отделения географического факультета Ленинградского государственного университета, где он обучался экстерном с 1928 по 1930 год, одновременно проходя воинскую службу на Балтийском флоте (1926–1930 годы), Н. Н. Волков начал исследовательскую работу под руководством этнографа и религиоведа профессора Н. М. Маторина. Сразу после окончания университета поступает в аспирантуру. В 1930 и 1931 годах двумя изданиями выходит его работа «Секта скопцов», подготовленная еще в студенческие годы [2: 4–5, 7]. В 1936 году была опубликована еще одна его монография «Скопчество и стерилизация» [3]. Диссертация Н. Н. Волкова «Скопчество как социально-экономическое и религиозное явление» получила высокую оценку Д. К. Зеленина, Е. Г. Кагарова и других видных специалистов [5: 353]. Выполнялась диссертация фактически вне рамок аспирантской подготовки, поскольку в 1931 году Волков из аспирантуры отчислился, «не будучи удовлетворен руководством аспиран-турой»2. С 1931 по начало 1935 года он работал по мобилизации на оперативной службе в НКВД, откуда демобилизовался по инвалидности с диагнозом «неврастения»3. С марта 1935 года он вновь возвращается к научной работе в Отделе Европы Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР г. Ленинграда в качестве младшего научного сотрудника, а по совместительству и сотрудника Государственного музея этнографии (ГМЭ).
В 1935–1936 годах Волков совершает серию экспедиций в Мурманский округ Ленинградской области для изучения саамов. В ноябре 1935 года руководит подготовкой новой экспозиции в ГМЭ «Социалистическое строительство на Кольском полуострове», посвященной памяти С. М. Кирова. Тогда же он меняет тему исследований и начинает писать новую диссертацию «Саамы (лопари)». По предположению А. М. Решетова, «уход его от изучения проблемы сектантства, прежде всего скопчества, связан с арестом как “врага народа” руководителя этой темы Н. М. Маторина», который якобы был идейно связан с «контрреволюционной зиновьевской оппозицией» и являлся «активным участником контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации, осуществившей 1 декабря 1934 г. злодейское убийство С. М. Кирова». На основании статьи 58-8, 11 УК РСФСР 11 октября 1936 года Маторин был приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян [4: 213–216], так что «вполне вероятно, что именно это обстоятельство послужило поводом к наказанию автора по партийной линии: Н. Н. Волков, член партии с 11 февраля 1921 г., в апреле 1937 г. был
исключен из ВКП(б) за утерю большевистской бдительности и связи с участниками правотроцкистской организации». Он оспаривал это решение, но безрезультатно. С апреля 1937 по февраль 1938 года, будучи уволенным из института, Волков несколько месяцев работал стекольщиком. Позже был восстановлен в прежней должности [5: 354].
В 1939–1940 годах Институт этнографии готовил к публикации крупную многотомную работу «Народы мира». Н. Н. Волков написал для нее 10 статей: «Саамы», «Вепсы», «Коми-зыряне и пермяки», «Карелы», «Финны (суоми)», «Ижоры», «Водь», «Евремейсы и савакоты», «Татары крымские», «Цыгане». Кроме того, как секретарь тома он координировал работу по подготовке статей членами авторского коллектива. Согласно биографическому материалу, хранящемуся в фонде 13, для написания своих статей, которые, в конечном счете, не были опубликованы, Н. Н. Волков неоднократно выезжал в экспедиции в различные районы Ленинградской и Мурманской областей, Карельской и Крымской АССР4. В частности, с 1 сентября по 1 октября 1940 года он предпринял экспедицию к саамам, во время которой собирал материалы по следующим темам: оленеводство и езда на оленях, охота и жизнь охотников на промысле, саамские жилища, пища и одежда, социалистическое переустройство их жизни. В предвоенный период участвовал в работе по реэкспозиции выставки Карело-финского отдела ГМЭ.
С 5 июля 1941 года Н. Н. Волков ушел добровольцем на фронт, после ранения под Гатчиной попал в плен, освободился только к концу Великой Отечественной войны, после чего вновь был зачислен в РККА. Демобилизуется он только в конце 1945 года, тогда же восстанавливается на работе в Институте этнографии и антропологии АН СССР в прежней должности младшего научного сотрудника и продолжает научную деятельность [5: 354].
В 1946–1947 годах Н. Н. Волков совершил две экспедиции с целью изучения вепсов: в Шелто-зерский район Карело-Финской ССР и Шимозер-ский район Вологодской области. В этот же период защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Саамы СССР». На Всесоюзной научной конференции по финноугроведению, которая проходила в ЛГУ с 23 января по 4 февраля 1947 года, выступил с докладом «Некоторые итоги этнографического изучения саамов (лопарей) СССР», в котором обосновал новые подходы к изучению саамской истории и этнографии [5: 354].
7 ноября 1947 года Н. Н. Волков был арестован и постановлением Особого Совещания при МГБ СССР 31 июля 1948 года осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Согласно формулировкам обвинения, он, находясь в плену у немцев, якобы «проводил антисоветскую агитацию, клеветал на руководителей ВКП(б) и советского правительства, призывал советских граждан к прекращению борьбы против немецких оккупантов» и, «возвратившись из плена и проживая в Ленинграде, среди своих знакомых в период 1946– 1947 гг. продолжал проводить антисоветскую агитацию». Ученый-этнограф отбывал заключение в ВЯТЛАГе (станция Фосфоритная Пермской железной дороги) и умер в поселке Лесное Кировской области 7 марта 1953 года [5: 354–355].
Судьба Н. Н. Волкова может считаться показательной для ученого-гуманитария его поколения, прежде всего в отношении того, как политикоидеологические факторы влияли на профессиональную научную траекторию, в том числе на предметную область исследований, на возможности интерпретации и публикации результатов. Требования пропагандировать государственную идеологию, применять «единственно правильный» марксистско-эволюционистский подход к характеристике социально-экономических, культурных и духовных институтов общества и отдельно взятых этнических групп, претворять в жизнь государственную антирелигиозную политику на основе «научного атеизма» и т. п. в виде необходимости могли внутренне приниматься или отвергаться самим исследователем, полностью или частично. Обзор архивных материалов в сопоставлении с опубликованными работами позволяет повысить достоверность суждений о реальных интересах исследователя, нереализованных направлениях работы. Материалы личного архива Н. Н. Волкова дают основание считать, что изучение народно-религиозных воззрений и практик, деятельности институтов их воспроизводства относилось к приоритетам Волкова как саамоведа.
АРХИВ Н. Н. ВОЛКОВА
Работы и личные документы Н. Н. Волкова находятся в Научном архиве МАЭ РАН в фонде № 13 и относятся к периоду с 1930 по 1947 год. Согласно аннотации к описи фонда, материалы были переданы в Музей вдовой этнографа в 1958 году, и дальнейших поступлений не было. 14 мая 1985 года были проведены проверка наличия и сохранности единиц хранения в данном фонде, а также «экспертиза ценности документальных материалов, в результате чего выявлены документы, не подлежащие хранению»5. И. В. Жуковской составлена единая опись вместо шести, существовавших ранее. Изначально до объединения в фонде было 116 единиц хранения, на данный момент – 102. Как отмечает И. В. Жуковская, «к сожалению, не все его полевые материалы сохранились и в фонде они составляют незначительное число»6.
Материалы фонда № 13 можно условно распределить на четыре группы: 1) полевые материалы
(фотографии, рисунки, карты и полевые записи), составляющие от всего числа документов 26,3 %, 2) научные труды (статьи, очерки, доклады и др.) – 47,4 %, 3) служебные документы (докладные записки, отчеты и т. п.) – 11,4 %, 4) отзывы, рецензии, письма и личное дело – 14,9 %. При этом одна единица хранения может состоять как из одного, так и из нескольких документов, вследствие чего количество единиц хранения и количество документов не совпадают.
Собственно работы Волкова составляют 72,8 % из всего массива имеющихся в фонде документов, 3,5 % работ в соавторстве, труды других авторов – 23,7 %. Из них 4 документа принадлежат неустановленным лицам, есть переводы 4 работ иностранных авторов.
К раннему периоду деятельности Н. Н. Волкова относятся его работы по проблемам религии и атеизма, которыми автор активно занимался с 1930 по 1936 год, а впоследствии периодически возвращался к ним. В фонде имеются 4 отзыва на работы Н. Н. Волкова по данной теме – Д. К. Зеленина, Е. Г. Кагарова и И. И. Мещанинова (дела 86–89) и 6 работ Н. Н. Волкова (дела 34, 37, 38, 54, 55, 75), которые датируются с 1936 по май 1941 года и составляют 8,8 % от всего массива документов. Согласно библиографической справке в личном деле, Волковым, помимо упомянутых монографий «Секта скопцов» и «Скопчество и стерилизация», был опубликован ряд работ по «вопросам изучения религиозных пережитков и их преодолению»: «К методологии изучения религиозных организаций в СССР» (Атеист. 1931. № 4), «Религия и борьба с нею на Днепрострое» (Воинствующий Атеист. 1931. № 2), «Федоровцы или еноховцы в ЦЧО», «По очагам церковного мракобесия» (Безбожник. 1931) и другие статьи в журналах и газетах7. По мнению Н. Н. Волкова, «для суждения о преодолении религии у того или иного народа, прежде всего необходимо познакомиться с основами религиозных верований у данного народа, проявлением религиозных пережитков в производственной, семейной и общественной жизни», и «лишь в этом случае мы сможем определить успехи антирелигиозного воспитания и наметить задачи конкретной работы, дающие наиболее действенные результаты в преодолении религии»8. Такими формулировками советские исследователи обосновывали свои научные изыскания и связывали их с необходимостью преодоления религиозных «пережитков» в народной среде, что соответствовало как научно-эволюционистской традиции, так и идеологии большевиков.
Н. Н. Волков несколько раз принимал участие в организации экспозиционной работы музеев по этнографической и краеведческой тематике. Так, в 1935 году он подготовил докладную записку «о состоянии Мурманского музея краеведения и необходимости его реэкспозиции» (дело 29) и «Путеводитель по отделу Кольского полуострова в Государственном музее этнографии» (дело 31), а в 1940 году – тематико-экспозиционный план, объяснительную и докладную записки для обновления экспозиции по Карело-Финской ССР (дело 47).
В данном фонде содержатся труды по общим, этнографическим и филологическим проблемам финно-угроведения: 7 работ принадлежат Волкову (дела 39, 42, 63–65, 71, 80), 1 совместная работа с Д. В. Бубрихом и Н. Н. Чебоксаровым (дело 72) и 3 работы других авторов (дела 91, 92, 101). Здесь Н. Н. Волков дает отсылки к отдельным этническим общностям, в том числе к саами.
На основании архивных материалов можно определить степень внимания исследователя к отдельным народам. Из 75 документов, объединенных в 53 единицы хранения, которые составляют 53,5 % от общего числа дел в фонде, саамам посвящено 22 документа9, вепсам – 1910, эвремей-сам – 6, савакотам – 5, ижорам и русским – по 4, карелам – 3, води, коми-зырянам и пермякам, крымским татарам – по 2, финнам, эстонцам, венграм и цыганам – по 1 документу. Как видим, в фонде присутствуют дела, которые состоят из одного источника, но содержат информацию о нескольких народах. Например, дело 43 имеет вид статьи, разбитой на 8 очерков, каждый из которых посвящен отдельному финно-угорскому народу, в том числе и саами. Общности савакоты и эвремейсы чаще идут в паре, за исключением случаев, когда савакоты отсутствуют (дело 43) или к ним добавляются ижора (дело 66).
Материалы по этнографии саами составляют 27 из 102 дел (27,5 % от всего числа дел). Причем 2 дела включают в себя 2 (дело 58) и 3 (дело 85) документа соответственно. Таким образом, в совокупности имеется 30 документов, среди которых в личном архиве Волкова находятся 6 работ других авторов, 2 комплекта рисунков других авторов, 3 отзыва на работу Н. Н. Волкова, авторству которого принадлежат: полевые материалы (9 дел), научные труды (7 дел) и служебные документы (2 дела).
При жизни ученого была издана лишь одна его работа, посвященная саамам, – статья «Изобразительное искусство саамов СССР», опубликованная в сборнике «Народное творчество» за 1940 год11. Только в 1996 году в сокращенном виде увидела свет его диссертация «Российские саамы. Историко-этнографические очерки» под редакцией Ч. М. Таксами (МАЭ РАН) и Л.-Н. Ласку (Саамский институт), которые не включили в издание политической части, поскольку она, по их мнению, «не вполне отражает историческую действительность» [1].
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ И ДОХРИСТИАНСКИЕ
ВЕРОВАНИЯ СААМОВ В ОЦЕНКАХ Н. Н. ВОЛКОВА
В ранних работах 1935–1936 годов Н. Н. Волков высказывается достаточно жестко о деятельности православной церкви среди саамского населения. По его утверждениям, монахи Соловецкого монастыря вели разведывательную деятельность «для приобщения Кольского полуострова к Московскому княжеству», а сам Соловецкий монастырь являлся «форпостом русского самодержавия на Севере и средоточием торгово-ростовщических операций»12. В XVI веке Трифоном Печенгским и Феодоритом Кольским, «несмотря на сопротивление саамов, они были крещены и вскоре превращены в монастырских крепостных и русских подданных»; «посещая Москву, монахи и различные авантюристы добивались от царей грамот на владение водными угодьями, землями и лопарями»13. По мнению этнографа, миссионеры и северорусские монастыри руководствовались в первую очередь экономическими интересами, так как хозяйство Кольского Севера основывалось на рыбном промысле (семга, палтус, треска). «Все саамы были поделены между монастырями, эксплуатировавшими их как путем крепостного труда, так и ростовщической кабалы»14. Начиная «с XVI столетия, т. е. с периода достоверных известий исторической науки о саамском народе, его культура оставалась почти неизменной, если исключить отмирание прежних религиозных представлений под влиянием насильственной христианизации»15.
С 1939 года акценты в работах Н. Н. Волкова смещаются. Ученый указывает на более мирную христианизацию населения русскими, нежели западными миссионерами и на прогрессистскую роль православных монастырей Русского Севера XV–XVII веков, которые, будучи «неотделимой частью государства последовательно распространяли свое влияние на нерусское население». Несмотря на то что саамы «не всегда охотно принимали христианство и не без борьбы (если верить жизнеописанию Стефана Пермского, Феодорита и Трифона Печенгского)», «нет никаких оснований предполагать применение инквизиционных средств». Напротив, «положительное их значение заключалось в том, что они содействовали расширению хозяйственной деятельности населения, способствовали культурному развитию и нередко спасали от разбойничьих шаек интервентов, предоставляя приют и пищу и отражая нападения своими гарнизонами»16.
Н. Н. Волков отмечал формальное исповедание российскими саамами православного христианства при наличии всех внешних атрибутов и строгого соблюдения обрядности. Православное вероисповедание «было воспринято внешне, как одно из средств магического воздействия на природу»17. Он вновь утверждает единство процессов закрепощения населения и христианизации, поскольку «с помощью кабальных сделок с саамами и жалованных царских грамот монахи захватили саамские земли и рыболовные угодья и превратили их в своих крепостных». Однако уточняет, что «в некоторых случаях саамы в XV и XVI вв. сами изъявляли желание принять православную веру и быть приписанными к монастырям, чтобы избавиться от платежа дани трем государям: датскому, шведскому и москов-скому»18. Позже Н. Н. Волков отмечал большое значение монастырей в XV–XVII веках как «проводников северно-русской культуры к саамам»19.
Столь же резко, как и православную миссию, Н. Н. Волков характеризовал в ранних работах дохристианские религиозные институты. В первую очередь это касается нойдов-колдунов, институт которых всегда являлся устойчивой характеристикой культуры саамов. По его утверждению, современными ему нойдами являются «кулаки-эксплуататоры», использующие «наличие среди саамов древних верований», и «некогда, лет 250–300 тому назад, каждый колдовал сам себе, имея особый для этого волшебный барабан, затем функции чародеев перешли к особо талантливым, так называемым нойдам»20. Таким образом, автор говорит о нойдах как о позднем явлении. Он отмечает, что «в начале XX века происходит весьма интересное явление: по мере того, как падает авторитет обычного ной-ды (чаще – бедняка, одержимого наподобие своего турецкого собрата – дервиша), функции нойды берет на себя кулак», который «уже не колдует, как прежний нойда, в интересах всего селения за скромную плату и открыто (лишь тайно от христианских священников), а колдует такой от всех, сам для себя, в ущерб интересам погоста»21. Следовательно, нойды прошлого ориентировались на коллектив соотечественников, а нойды нового времени – на свой личный интерес. В отличие от них, у первых Волков отмечает индивидуальнопсихологическое основание занятий магической деятельностью («одержимость»).
После 1939 года Н. Н. Волков придерживается, скорее, нейтральной позиции, когда описывает дохристианские верования саамов. Объединяя основания систематизации по персонажам, объектам и локусам, он выделяет магию (нойды, колдуны), анимизм (духи леса, рек, озер и т. п.) и фетишизм (сейды, горы, леса и т. п.), отмечает отсутствие элементарных знаний по медицине и распространение знахарства22. По его мнению, «в верованиях саамов характерно сосуществование христианских понятий с первобытнообщинной религиозной идеологией», и «в течение свыше трех столетий исповедуя христианство, саамы до недавнего времени сохраняли веру в демонов-хозяев, анимистические воззрения на природу, культ каменных сейдов-фетишей, жертвенных животных, магию и колдовство»23, то есть «в быту и сознании саамов большую роль играли первобытные верования»24. Автор отмечает, что до революции «широко были распространены вера в колдовство при помощи рогов диких оленей, поставленных в ряд на особо отведенных для этого местах (чуэрвьгарты), и заклинания при помощи пения и вращения ножа»25; в эти места «сносили рога убитых диких оленей и бросали монеты с целью получить удачу на охоте или рыбной ловле»26. «В каждом селении имелись один или несколько лиц, которые слыли «нойдами», то есть колдунами, и которые по своим функциям были близки к «сибирским шаманам»27, но «шаманства как особой профессии, у кольских саамов не было»28. Волков пишет, что «объектами поклонения являлись небесные светила, облака и олицетворенный гром», и «до недавнего прошлого был распространен культ сейдов – почитание камней и гор, якобы приносящих удачу на охоте и в рыбной ловле»29. Кроме того, «многочисленные женские сейды (камни-фетиши), которым еще не так давно поклонялись саамы, можно рассматривать как пережитки эпохи материнского рода»30; «значительное место в религиозном сознании занимали также представления о различных духах-покровителях и враждебных духах»31. По мнению Н. Н. Волкова, саамский фольклор «отражает религиозно-обрядовые традиции»32.
Таким образом, виден переход Н. Н. Волкова от критической позиции в отношении православной христианизации к «патриотической», а также смена оценки религиозных воззрений саамов, как христианских, так и дохристианских, с негативной на нейтральную. Можно предположить, что на позицию советского этнографа, который обращался к вопросам религии, влияли меняющиеся политико-идеологические контексты внутри страны, прежде всего взаимоотношения государства и церкви в предвоенный и военный периоды. Не исключается внешнеполитический фактор: крайне агрессивная внешняя политика гитлеровской Германии в Европе сказалась на поляризации оценок характера христианизации народов западными державами и Российским государством. Нельзя не учитывать непосредственного влияния на научные тексты политической обстановки 1930–1940-х годов, когда любая оплошность или неверно истолкованное слово могли иметь и имели фатальные последствия. При этом материалы личного архива Н. Н. Волкова свидетельствуют, что на протяжении всего времени сохраняли устойчивость научно-эволюционистская точка зрения автора на постепенное отмирание части религиозных воззрений саамов и признание формального исповедания ими православия, которое приживается лишь в обрядовой форме.
НА МАЭ РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 31.Л. 7.
BELIEFS OF THE SAMI
Список литературы Личный архив Н. Н. Волкова как источник по изучению верований саамов
- Волков Н. Н. Российские саамы. Историко-этнографические очерки/Под ред. Ч. М. Таксами, Л.-Н. Ласку. СПб., Каутокейно: Dieöut 1, 1996. 109 с
- Волков Н. Н. Секта скопцов/Под ред. Н. М. Маторина. Изд. 2-е, доп. Л.: Прибой, 1931. 168 с.
- Волков Н. Н. Скопчество и стерилизация (исторический очерк)/Отв. ред. И. И. Мещанинов. Л.: АН СССР, 1936. 136 с.
- Решетов А. М. Репрессированная этнография. Люди и судьбы (Часть 1)//Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.: МАЭ РАН, 1994. Вып. 4. С. 185-221.
- Решетов А. М. Репрессированная этнография. Люди и судьбы (Часть 2)//Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб.: МАЭ РАН, 1994. Вып. 5-6. С. 342-368.