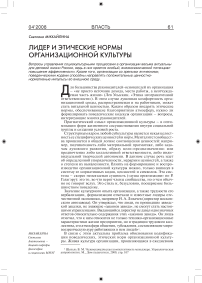Лидер и этические нормы организационной культуры
Автор: Михайлина Светлана Анатольевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 4, 2008 года.
Бесплатный доступ
Вопросы управления социокультурными процессами в организации весьма актуальны для деловой жизни России, ведь в них кроется особый, внеэкономический потенциал повышения эффективности. Кроме того, организации со зрелыми этическими, поведенческими кодами способны направлять положительные ценностно-нормативные импульсы во внешнюю среду.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164409
IDR: 170164409
Текст научной статьи Лидер и этические нормы организационной культуры
д
ля большинства руководителей-основателей их организация – «не просто источник дохода, место работы, а неотчуждаемая часть жизни» (Лев Усыскин. «Этика неограниченной ответственности»). В этом случае душевная комфортность организационной среды, распространяемая и на работников, может стать витальной ценностью. Каким образом внедрять этические нормы, обеспечивающие благоприятную атмосферу, нужно ли формулировать поведенческие кодексы организации – вопросы, интересующие многих руководителей.
Прагматический смысл организационной культуры – в оптимизации форм жизненного сосуществования внутри социальной группы и создании условий роста.
Структурным ядром любой субкультуры является некая целостность ее специфических ценностей и норм. Менталитет сообщества проявляется в общей логике соотношения ценностей: например, подчиненность либо материальной прагматике, либо задачам духовного развития, образу цели-предназначения» или предпочтение либо коллективной ответственности, либо индивидуальной творческой автономии. В данном случае речь идет об определенной упорядоченности, иерархии ценностей, а также о степени их выявленности. Влиять на формирование и воспроизводство организационной культуры можно, только вникнув в систему ее нормативных кодов, ценностей и символов. Эта система – скорее неосязаемая сущность («душа организации» по Р-. Гэлагэру): это то, во что верят члены сообщества, но о чем обычно не говорят вслух. Это стиль и, безусловно, поощряемое большинством поведение.
Значение культурного опыта организации, а также трудности его вербализации, формализации отмечали и известные лидеры отечественной экономики, например И. А-. Лихачев (директор московского автозавода). Он утверждал, что люди, не прошедшие заводской закалки, не знающие «законов завода», не смогут стать настоящими управленцами. Выдающийся директор не давал однозначных ответов относительно содержания этих «законов завода». Он лишь отмечал, что к ним относятся не только технико-организационные характеристики жизни предприятия, но и традиции трудового коллектива, его атмосфера общения, «убеждения, составляющие мировоззренческую ауру работающих в нем людей»1.
МИхАйЛИНА Светлана
Анатольевна – доцент кафедры философии и социологии МИЭТ
В связи с этим актуальна проблема обоснования кодификации поведенческих, этических норм организационной культуры. Живая культура организации, проявляющаяся в ежедневном обмене эмоциями, решениями, символическими формами, ускользает от анализа и дефиниций. Это, впрочем, не дает оснований для отрицания самого факта существования субкультуры, скорее ее следует оценивать как сформировавшуюся, зрелую или наоборот – незрелую в зависимости от стадии развития группы. Возможно использование терминов «сильная» и «слабая» культура.
В большинстве микросоциумов базовыми, задающими систему поведенческих норм являются моральные ценности, так как они отражают предпочтительные варианты отношений людей в личностной, адресованной самому человеку форме. Нравственно позитивные ценности, прежде всего доверие, лежат в основе «социального капитала» (Ф. Фукуяма) сообщества как особого ресурса.
Организации с сильной культурой имеют согласованный набор ценностей и норм, традиций, который мотивирует людей. Управленческие решения принимаются здесь на основе таких моральных ценностей, которые положительно воспринимаются как сотрудниками, так и внешним социумом. В этом случае людей не тревожит необходимость жертвовать экзистенциальными основами (работой, безопасностью, идентичностью) ради выполнения нравственного долга.
«Слабая культура» может содержать разрушительные по сути ценности: ограниченность, недоверие к персоналу, нетерпимость, авторитаризм, нечистоплотность в делах или во внутренней конкурентности и т. п. Р-ешения базируются на локальном эгоизме управляющих, на стагнирующих традициях, препятствующих росту, реализации гуманистического идеала. В такой культуре возможны лишь расплывчатые или противоречивые представления относительно сфер ответственности, способов общения, отношения к внешней среде, а для регуляции поведения используются только формальные нормы (должностные инструкции).
Нормы в отличие от ценностей всегда конкретны, специализированы применительно к определенным социальным функциям и типам отношений. Это то, о чем каждый член организации со зрелой культурой может сказать: «У нас так (не) принято!».
Именно на нормах как символических феноменах основаны система социальных взаимодействий, практическая интеграция индивидов. Сообщество способно навязать своим членам определенную норму поведения, используя санкцию.
Становление субкультуры в целом и организационное нормообразование в частности – это сложный, системный процесс. А-дминистративными методами можно устанавливать лишь те нормы, которые являются знаками имиджа организации: правила делового этикета, дресс-код и т. п. Эстетическое начало (вкус, чувство меры), которое способен нести в себе имидж, также может стать организующим фактором.
Позитивное значение таких норм заключается, во-первых, в указании на значимость порядка и идентичности, во-вторых, в перспективе хабитуализации (в этом случае они становятся привычными) оптимальных форм делового общения. Соблюдение норм делового этикета является непреложным, оно свидетельствует о готовности члена организации ограничить свою субъективность, подчинить стихию индивидуальных предпочтений интересам общего дела.
В то же время эта группа норм не затрагивает глубинный комплекс ценностей и приоритетовсотрудников. Формирование этических норм организационной культуры происходит иными путями, они не поддаются прямому административному регулированию. Становление и специфика комплекса норм в субкультуре организации, по мнению автора, обусловлены следующими процессами и факторами:
-
1) закономерностями развития социальной группы и ее сложившейся функционально-ролевой структурой;
-
2) особенностями соотношения образов внешней (доминирующей) культуры и выборов индивидов внутри группы, прежде всего – личностью лидера, задающего образцы;
-
3) внедрением программ деловой этики специалистами по «этическому менеджменту» (тренинги, коуч-консультации).
Первая группа факторов относится к объективным процессам групповой динамики. Ч-лены рабочей группы вынуждены принимать собственные правила взаимодействия, исходя из утилитарных соображений. Эти правила обычно выражаются в профессиональных предписаниях, становятся начальными в системе формирующихся норм.
В своем развитии группа проходит определенные стадии. На первой стадии (этапе возникновения) индивиды, испытывая друг друга, осторожно демонстрируют свои ценностные приоритеты; интуитивно определяют устремления, доминирующие установки других.
Второй этап – стадия конфликта, где выявляются расхождения в приоритетах, происходят попытки самоутвердиться в борьбе за лидерство, место в иерархии. Ускоряется процесс служебной социализации сотрудников, так как сложившееся напряжение вызывает недовольство собой, стимулирует собственное изменение. Здесь определяются способы достижения компромисса, формируется толерантность либо напротив – нетерпимость, подкрепляемая рьяными апелляциями к формальным правилам или/и абстрактным морализированием. Для того чтобы избежать обострений, руководителю уже на первой стадии нужно интенсивно общаться с людьми, выявляя их потенциал, активно сигнализировать сотрудникам о предпочитаемых установках.
Третья фаза развития группы – стадия нормообразования или установления норм. Она характеризуется установлением консенсуса, принятием лидерства, возможностью сосредоточиться на адекватном функционировании, росте, совершенствовании технологий деятельности. Сформирован устойчивый набор (в лучшем случае – система) норм, часть которых задается лидером, остальные складываются в процессе обмена (чувствами, ожиданиями, деятельностью) между сотрудниками. Утверждение неформальных норм в процессе структурирования группы оказывает социализирующее влияние на ее членов, побуждая к рефлексии, самовыявлению индивидуальной нравственности.
Участие в формализованных отношениях также приводит к изменению поведенческих стандартов, а нередко и ценностных установок индивидов. Необходимость включения в механизм функционально-ролевого взаимодействия требует от индивида самоограничения и дисциплины. Своеволие (необузданная субъективность) как результат элементарных импульсов, отсутствия личностного кредо поддается сдерживанию в управленческой практике не столько обращением к рациональности или к авторитету моральных установок, сколько объективной необходимостью функциональной иерархии (субординации).
Осознание этого позволяет принимать саму идею социального порядка в качестве важной ценности. Именно эта идея раскрывает сущность такой социальной системы, в которой все люди осуществляют свое право на формирование целей и выбор средств их достижения. «Общественный порядок, хотя и сформировавшись под давлением низших побуждений, стал условием возможного свободного развертывания самых благородных наших задатков»1. Групповые нормы предохраняют от цели максимизации пользы индивида, как бы заново открывая возможность общего блага.
Ч-то касается этического консалтинга, то основные трудности здесь связаны с напряжением, вызванным, во-первых, неприятием современными российскими специалистами любых форм идеологического прессинга (кодификация рассматривается как навязывание норм, как форма морализаторства). Во-вторых, трудности обусловлены неоднозначностью, противоречиями в оценке норм с позиций индивидуального нравственного сознания. Гораздо большее понимание находит апелляция к профессионализму как ценностной характеристике личности. Именно упрек в непрофессионализме в латентной форме содержит моральное порицание, которое люди улавливают и не решаются с негодованием отвергнуть. Поэтому практическая систематизация кодов профессиональной деятельности должна опираться на взаимообусловленность профессиональных и этических норм. Например, такие деловые качества, как:
-
– точность, самостоятельность и ответственность коррелируют с этическими нормами честности и самокритичности;
-
– профессиональный навык управления эмоциями – с нормами терпимости, доброжелательности;
– требования умения принимать решения, делегировать полномочия – с нормами взаимоуважения, поддержки, командности.
В целом как объективные, так и субъективные факторы нормообразования в организационной среде могут привести к различным результатам. Возможно, что при наличии четких предписаний, культа дисциплины реальное поведение сотрудников может носить характер отчужденности, который выражается в пассивности, скрытом противостоянии, низком уровне ответственности.
Противоположная ситуация – полная интериоризация ценностей и принципов системы ролевых отношений в группе. Приняты такие формы солидарности, которые удовлетворяют потребность в самоидентификации, в системе ориентаций и привязанностей, при этом предоставляя возможность для свободной самореализации. Идеальная организационная субкультура способна «удовлетворять две потребности человека: быть тесно связанным и в то же время свободным, быть частью целого и быть незави-симым»1. Зачастую только от чуткости и усилий руководителя-лидера зависит, получит ли организационная среда особую для ее членов ауру привлекательности, станет ли она для них мотивирующим фактором.
Талантливый лидер-менеджер в современном мире – важнейший продуцирующий и интегрирующий фактор социальных связей. В условиях психологии рынка личность-вектор, определяющая цель и организующая функции, создает контекст взаимоотношений. «Лидер – это человек, который через собственный эгоизм реализует общественный интерес. Великий лидер, руководя интересами, распределяя блага и развивая собственную деятельность, дает работу сотням людей, стимулирует прогресс в обществе, жизненность, вносит диалектику, дает толчок эволюции»2.
Взгляд на бизнес как институализированный эгоизм широко представлен в истории европейской культуры (например, у К. Маркса или Ш. Б-одлера). А-. Смит считал заведомо моральной ситуацию, когда человек получает возможность преследовать на рынке свой личный интерес.
Основной критерий выбора лидером линии поведения – польза жизни, достижение, рост, успех. Эгоцентричный лидер не видит ограничений, постоянно генерирует новые идеи, его энергия и уверенность все сильнее вдохновляют его последователей. А-. Менегетти считает, что лидер, действующий с оглядкой на «стереотипы» (поведенческие, моральные), на собственные комплексы, проигрывает. По его мнению, устремленность, заря-женность, интуиция, являющиеся сутью лидерства, трансцендентны морали.
В то же время практикуемые лидером способы организации совместной деятельности задают определенный культурный контекст, включающий систему норм, «создают» людей, способных достигать. В этом вождь сродни пророку-новатору, а верность вектора утверждаемых им ценностей будет проверена временем и успехом его дела. Но диалектика «новации–традиции» требует понимания вождем опасности отношений, каким-либо образом провоцирующих людей на моральное отступничество. Это в свою очередь предполагает культурную образованность лидера, знание психологии, опыт дипломатических отношений. Только в этом случае он способен гарантировать функциональность для других, не подавляя, не разрушая и не захватывая, иначе это было бы инфантильное лидерство.
Менегетти также указывает, что современная бизнес-ситуация порождает осознание талантливым лидером запрета на использование других. Способ включения партнеров и сотрудников в выстраиваемую лидером систему отношений – это умение заинтересовать этих людей, предлагая оптимальные функциональные образцы, предоставляя возможности, оказывая услуги.
Харизматические идеи лидера, задавая определенные ценности, продуцируя социальный контекст, усваиваются данным сообществом через стадию рутинизации, превращаясь в факт повседневной жизни и фактор стабильности. Последователи лидера систематизируют, адаптируют и распространяют его идеи в данной среде. Нормы в этом случае утверждаются посредством ссылки на авторитет, а также отчасти путем приспособления системы ценностей и верований к интересам различных под- групп (ссылки на совместные достижения, повышающие престиж, статус, уважение). Коллективные представления, моральные установления, присущие сначала небольшой группе лиц, «затем рути-низируются, обнаруживая «избирательное сродство» с определенными слоями и группами населения»1.
В современных западных теориях лидерства представлены и другие подходы к образу лидера: прежде всего как агента социализации (то есть «воспитателя»). Б-лагодаря ему институциональные правила и нормы приобретают мотивационную силу. Не только харизматическая интенция на достижение, а скорее нравственные качества лидера рассматриваются как источник и гарант позитивной организационной культуры. Ведь эгоцентричные лидеры, как правило, страдают излишней самоуверенностью, подавляющей подчиненных, нетерпимостью, болезненной реакцией на критику и т. п. В отсутствие сдерживающих факторов работы над собой в нужном ключе деятельность таких лидеров может привести к отрицательным результатам.
Современные исследователи показали, что свойства организационной среды, эффективность деятельности напрямую зависят от определенного комплекса личностных качеств и навыков руководителя. Д. Гоулман называет данный комплекс «эмоциональным интеллектом». Макклеланд обнаружил, что если ведущие менеджеры владеют большинством навыков эмоционального интеллекта, то их подразделения на 20% перевыполняют нормы прибыли2.
Основные составляющие этого комплекса: самосознание, самоконтроль, мотивация на достижение, эмпатия и социальные навыки (общительность). Каждое из данных свойств и навыков коррелирует с такими нравственными качествами личности, как реалистичная самооценка, надежность и честность, приверженность ценностям организации, чуткость, стремление к справедливости, взаимопомощи, командной работе. Эти качества помогают овладеть наиболее эффективными стилями лидерства (авторитетный, товарищеский, демократический, обучающий), затем успешно практиковать, гибко меняя их применительно к ситуации. Это в свою очередь позитивно влияет на основные факторы и ценности организационного климата: гибкость, ответственность, стандарты, справедливость вознаграждений, ясное представление о задачах компании, приверженность общей цели. Эффективные лидеры тонко чувствуют и осознают, какое влияние они оказывают на людей, их групповые нормы, умело корректируя при этом свой стиль. Р-уководители могут вдохновить сотрудников, помочь им в самоопределении и развитии, используя среди прочего возможности институализированных поведенческих кодов.
Становление молодых институций в условиях развивающейся рыночной экономики Р-оссии вызывает в них потребность зафиксировать, утвердить свою социальную значимость посредством формализации собственного предназначения, создания профессиональных этических кодексов. Самобытные поведенческие коды сильной организационной культуры способны противостоять тотальности потребительской этики, навязываемой массовой культурой.
Р-оссийское общество все еще переживает угрозу аномии в связи с процессами радикального реформирования устоев. Необходимо выявление обновленных способов формирования социальной ответственности, связанных с потенциалом организационной субкультуры как среды динамичной социализации личности, а также с возможностью профессионально-конкретизированных форм морали стать каналами трансляции нравственных ценностей в обществе.
Подлинный лидер во избежание маргинализации будет стремиться противостоять враждебной среде: бюрократизации, ведущей к выталкиванию властью из правового поля, моральному оппортунизму.