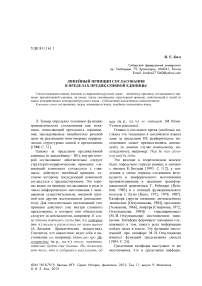Линейный принцип согласования в пределах предикативной единицы
Автор: Ким Игорь Ефимович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Системные отношения на разных уровнях языка: опыт описания подсистем
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена новому явлению в современном русском языке – линейному принципу согласования в границах предикативной единицы, на наших глазах сменяющему структурный принцип, действующий в одной из самыхконсервативных конструкций русскогоязыка – субстантивно-адъективном словосочетании.
Согласование, падеж, инновации в языке, линейные отношения в языке
Короткий адрес: https://sciup.org/14737939
IDR: 14737939 | УДК: 811.161.1
Текст научной статьи Линейный принцип согласования в пределах предикативной единицы
Л. Теньер определил основную функцию грамматического согласования как механизм, позволяющий преодолеть ограничения, накладываемые линейностью речевой цепи на реализацию многомерных иерархических структурных связей в предложении [1988. С. 31].
Однако за пределами предикативной единицы (в дальнейшем – ПЕ), внутри которой согласование действительно следует структурно-иерархическому принципу «зависимый компонент согласуется с главным», действует линейный принцип, согласно которому последующий компонент согласуется с предшествующим. Это хорошо видно на примере согласования в роде и числе анафорического местоимения с замещаемым существительным, именной группой или другим местоимением (антецедентом). Для относительных местоимений этот принцип действует уже внутри сложного предложения, в котором они обязательно следуют за антецедентом, например: К концу чтения появились слезы (мн. ч.), которые (мн. ч.) текли и расползлись по моим щекам (А. Лиханов. Драматическая педагогика). Считается, что аналогично ведет себя и местоимение он, например: Написано про Эйзенштейна (м. р., ед. ч.) много, вероятно, написано будет еще больше. Но, пожалуй, вот того, что я собираюсь рассказать, об нем (м. р., ед. ч.) не напишут (М. Ромм. Устные рассказы).
Однако в последнее время (особенно наглядна эта тенденция в английском языке) даже за пределами ПЕ анафорическое местоимение может предшествовать антецеденту (в данном случае именуемому постцедентом), например: That he was clever was said by John .
Это явление в теоретическом аспекте было определено гораздо раньше и связано с именем К. Бюлера [1993. С. 112], а тенденция к смене порядка следования антецедента и анафорического местоимения проанализирована в традиции трансформационной грамматики Т. Рейнхарт [Reinhart, 1983] и с позиций функционального подхода С. Куно [Kuno, 1972; 1976; 1987]. Катафора (другие названия: антецедентное замещение [Откупщикова, 1984], пролепсис [Ахманова, 1966], эпифора [Смирнова, 1972; Откупщикова, 1984]) – «предваряющее» (М. И. Откупщикова) местоименное замещение. Катафора формирует ожидания слушающего в том, какого рода информация пойдет далее в тексте. Эту функцию местоимений при катафоре М. И. Откупщикова именует функцией предсказания смысла [1984. С. 24].
Средствами катафоры выступают те же местоимения, что и средствами анафоры.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © И. Е. Ким, 2012
Наиболее свободно катафорически употребляются местоимения при замещении ПЕ. Именное замещение обычно не выполняет функции переноса содержания из одного фрагмента текста в другой. Так, опережающая анафора – средство актуального членения высказывания, повышающее коммуникативный статус темы, например: Теперь ОН умер , мой отец (А. Аверченко. Отец).
Другие случаи порядка «анафорическое местоимение – антецедент» часто рассматриваются как инверсия анафоры под влиянием определенных факторов.
Наиболее распространена в русском языке инверсия анафоры под влиянием порядка частей синтаксической конструкции. При препозиции зависимой ПЕ в сложном предложении возможен, а при препозиции полу-предикативного оборота обязателен инвертированный порядок следования антецедента и местоимения, например: Сквозь этот кромешный ад , где все ее пугало и отталкивало , девочка вела ошеломленного старика и Взяв принадлежащие ему вещи , Иван вышел (оба примера – М. И. Откупщиковой). Если в первом высказывании перестановка антецедента и местоимения не влияет на сохранение анафорического отношения, то во втором высказывании она приводит к его отсутствию.
Можно заметить, что линейный принцип анафоры в этих конструкциях нарушается, но его сменяет структурный принцип: анафорическое местоимение отсылает из подчиненного синтаксического компонента в подчиняющий.
В русском языке рубежа ХХ–XXI вв. наблюдается обратная тенденция – проникновение линейного принципа согласования в пределы ПЕ. Причем охватывает она не отношения кореферентности, а сердце согласовательной связи – согласование атрибутивных форм прилагательного в функции определения с доминирующим существительным.
Чтобы обнаружить эту тенденцию, обратимся к природе механизма согласования. Согласование есть уподобление зависимого слова главному в категориях числа, рода (в ед. ч.) и падежа (личные формы глагола уподобляются подлежащему в числе и лице). Однако выявить направление связи оказывается непросто. Во-первых, если два слова представлены аналогичными по значению формами этих категорий, то это мо- жет быть и случайным совпадением, и самостоятельным подчинением обоих слов какому-то третьему слову, что говорит об отсутствии согласования как синтаксической связи, например: Всю ночь (В. п.) я учил роль (В. п.). Во-вторых, даже если связь наличествует, неочевидно, какое из слов является в паре главным, как, например, в связи приложения. В этом смысле направление связи в сочетании прилагательного и существительного кажется вполне очевидным, поскольку прилагательное изменяется по роду, а существительное не изменяется, при этом согласованное прилагательное принимает то же значение рода, что и существительное.
В отношении категории падежа нет такой очевидности. Существительное и прилагательное изменяются по падежам. Однако и у того и у другого есть некоторое количество омонимичных падежных форм. Причем у прилагательного состав омонимичных форм не совпадает с составом омонимичных форм существительных во множественном числе, а также в единственном числе в зависимости от типа склонения существительного. Сопоставление состава омонимичных падежных форм обнаруживает небольшую зону расхождения в омонимии падежей: в женском роде у существительных 1-го склонения нет омонимии родительного – дательного-местного – творительного падежей, которая наблюдается у прилагательных, красной палатки / палатке / палаткой , у существительных 3-го склонения не наблюдается омонимия творительного – родительного-дательного-мест-ного падежей, например: поздней осени / осенью , а во множественном числе у всех существительных нет омонимии родительного - местного падежей, например: красных рубах-платков-шалей / рубахах-плат-ках-шалях . Это значит, что пара падежей «родительный – местный» у всех существительных во множественном числе, тройка «родительный – дательный-местный – творительный» у существительных 1-го склонения и пара «родительный-дательный-местный – творительный» у существительных 3-го склонения в единственном числе являются зоной, в которой существительное рискует принять другую падежную форму, если будет ориентироваться на внешний вид формы прилагательного, а не на требования управляющего слова.
Таким образом, нам удалось исчислить все возможные зоны смешения падежных форм существительного, которые могут свидетельствовать о нарушении привычного структурного принципа согласования.
М. Я. Гловинская описала многочисленные факты смешения во множественном числе родительного и местного падежей [Гловинская, 2000]. Дополним ее примеры собственными данными: Костылев , конечно , о себе выше мнением , чем о сво их (Р.-М. п.) обитател ей (Р. п. вместо М. п.; ученица 11-го класса, сочинение, 2004 г.); В начале 90 -х год ах ; в предшествующ их текст ов (аспирант-лингвист, научный доклад, 2003 г.).
Приведем также факты смешения падежей существительного в единственном числе. Часть смешений может быть объяснена аналогическим влиянием фонемно-графического состава флексии прилагательного, другие граничат с орфографической ошибкой, могут быть и иные конкретные факторы смешения. Однако круг омонимичных значений формы прилагательного накладывает ограничение на использование падежной формы существительного.
-
1. Родительный – дательный-местный: В игре нашей команд е (Россия-Спорт. 06.09.2007);
-
2. Родительный – творительный: Произвольная смена точки отсчета , не мотивированная появлением конкурирующ ей ситуаци ей , претендующей на роль прагматической , как правило , связана с прагматическими или когнитивными эффектами (учебное пособие по морфологии современного русского языка, 2008); С учетом зимн ей добавк ой (Афонтово. 02.12.2007); Создание типологии языковой личност ей является одной из наиболее значимых задач современн ой антропоцентрическ ой лингвистик ой (курсовая работа).
-
3. Дательный – родительный: подключение прибалтийских государств к интегрированн ой систем ы (исправился: системе)... (чиновник МИД, Сегодня. НТВ. 29.03.2004); по наивысшей сумм ы баллов (1 канал. 08.12.2007).
-
4. Местный – родительный: В эт ой книг и Ю. Д. Апресян дает описание семантики русского глагола на основе его синтаксических свойств , под которыми понимаются характерные для глаголов типы управления
и трансформаций , допускаемые глагольными фразами (Студент-филолог. Курс. работа); Депутаты , по десять лет отсидевшие в Государственн ой дум ы (РТР. 29.11.2007).
-
5. Творительный – родительный-датель-ный-местный: Исследование «мы»-псевдо-инклюзивного обнаруживает связь сопричастности с тропом , именуемым синекдохой , т ой его разновидност и , которая характеризуется как totum pro parte ‘ целое вместо части ’ (Монография, черновик); Наши солдаты и офицеры , ошеломленные причиненн ой вам бол и (диктор НТВ. 15.04.2004).
Обратим внимание на то, что чаще всего смешение идет в сторону формы родительного падежа, при этом флексия часто оказывается безударной, т. е. на месте флексии обнаруживается редуцированный гласный.
Механизм линейного согласования в данном случае состоит в том, что выбор падежа при сочетании прилагательного с существительным перестает полностью зависеть от требований, предъявляемых доминирующей синтаксической конструкцией к существительному: ответственность за выбор падежа распределяется между обоими членами адъективно-субстантивной группы, при этом решающая роль принадлежит тому члену сочетания, который появляется в высказывании линейно первым. Если прилагательное находится в препозиции, оно принимает форму, соответствующую требованиям конструкции, а падеж существительного «отмеряется» от падежа прилагательного и при омонимии форм падежа прилагательного случайным образом принимает значение «родительный» или «местный»; «родительный-дательный-мест-ный» или «творительный»; «родительный», «творительный» или «дательный-местный». Если же в препозиции находится существительное, что бывает гораздо реже, то уже прилагательному приходится «приспосабливаться» к неомонимичной падежной форме существительного. И в этом случае, как показывает материал М. Я. Гловинской, ослабление субстантивного падежа приводит к другому явлению в падежном согласовании – рассогласованию адъективной формы, как правило, причастия [2000. С. 273–275].
Линейный механизм согласования распространяется даже на категорию числа, например: Во всяком речевом акте выска- зывания различается три разных актов, осуществляемых говорящим (черновик дипломного сочинения; ед. – мн. ч.).
Наблюдаются также факты смешения падежей, вызванного линейным согласованием существительного с предшествующим существительным , например: В тайниках колумбийской столицы [ ъ ] (архифонема <ы/е>) Богот е (Euronews. 22.06.2007; родительный – дательный-местный); … Об уважаемой мной певиц е [ ъ ] (архифонема <ы/е>) Надежд ы Бабкиной (Рен-ТВ. 01.09.2007; дательный – родительный); В год своего 100-летия российское кино предлагает Рогожкин а ... Оксан ы Бычков ой (телепередача; винительный одушевленных существительных – родительный); Диссертационное сочинение включает в себя три содержательные главы , из которых первая посвящена теоретическому освещению семантики не-контролируемости , во второй главе рассматривается отношение неконтролируе-мости к основным грамматическим категориям глагола: виду , времен и и наклонени я (черновик диссертации; дательный – родительный). В данном случае наблюдается смешение, вызванное не только полноценной омонимией падежных форм предшествующего существительного, но и омофонией, которая вызвана нейтрализацией гласных флексии разных падежей в позиции после ц .
Мы можем переосмыслить некоторые факты предложного управления, связанные с заменой падежной формы при предлоге. Нормативный аспект таких замен очевиден, но важно и теоретическое их осмысление. Приведу вдобавок к типичным фактам замены падежа (например, колебание «винительный – местный», граничащее с орфографической ошибкой: В избежании травматизма – убедительная просьба во время движения транспорта держаться за поручни! (Красноярск. Автобус 21-го маршрута. 12.02.2007)), пример, когда значение падежа явно противоречит контексту: Разведку акватории сейчас будут вести с воздухом (Вести Россия. 18.11.2007; родительный – творительный). Предлог с сочетается с родительным, творительным и винительным падежом в абсолютно разных значениях. Замена падежа в этом случае означает ослабление контроля говорящего над па- дежной формой, автоматическое сцепление последующего существительного с предлогом, сохраняющее потенциал сочетаемости предлога, но не учитывающее валентности доминирующих слов. Таким образом, управляющим в предложении оказывается не предикат (будут вести разведку), а предлог, линейно непосредственно предшествующий существительному. Действует линейный механизм, аналогичный механизму линейного падежного согласования.
Итак, в настоящий период на фоне отмеченного М. Я. Гловинской ослабления падежа существительного наблюдается уникальная тенденция во взаимодействии существительного с доминирующими над ним, зависимыми от него и стоящими слева от него словами: вместо структурноиерархической доминации управляющих слов над существительным и существительного над зависимыми словами мы обнаруживаем факты подчинения существительного предшествующему слову: согласования в падеже с зависимым прилагательным или соположенным существительным или управления со стороны предлога.
PRECEDE-AND-COMMAND PRINCIPLE IN THE RUSSIAN ADJECTIVE-NOUN PHRASE