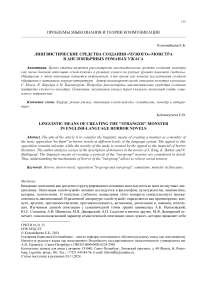Лингвистические средства создания «Чужого»-монстра в англоязычных романах ужаса
Автор: Коломейцева Е.Б.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Проблемы языкознания и теории коммуникации
Статья в выпуске: 5 (149), 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является рассмотрение лингвистических средств создания монстра как члена базовой оппозиции «свой-чужой» в романах ужаса на разных уровнях языковой системы. Обращение к этой оппозиции остается актуальным, в то время как новизну исследования создает обращение к материалу хоррор-литературы. Автор анализирует сцены описания монстра в романах С. Кинга, К. Баркера и Н. Баллингруда. Подробно рассмотрены лингвистические средства создания портрета «чужого»-монстра. Понимание механизмов ужаса перед «чужим» позволяет снять социальное напряжение.
Хоррор, роман ужаса, оппозиция «свой-чужой», соматизмы, монстр в литературе
Короткий адрес: https://sciup.org/148331359
IDR: 148331359
Текст научной статьи Лингвистические средства создания «Чужого»-монстра в англоязычных романах ужаса
Бинарные оппозиции как средство структурирования и познания используются во многих научных дисциплинах. Оппозиция «свой-чужой» активно исследуется в философии, культурологии, лингвистике, истории, политологии. О попытках глубокого осмысления этого концепта свидетельствует множественность наименований. В различной литературе «свой-чужой» определяется как противоречие, концепт, архетип, противопоставление, противоположность, антиномия, диспозиция и, наконец, оппозиция. Изучением данной оппозиции с семантической точки зрения занимались А.Б. Пеньковский, Ю.С. Степанов, А.В. Шипилов, М.Я. Дымарский, А.П. Садохин и многие другие. М.Я. Дымарский отмечает «основополагающий характер семантической оппозиции «свое-чужое», которая проявляет себя
ГРНТИ 16.21.33
EDN SFQCZT
Екатерина Борисовна Коломейцева – доцент кафедры интенсивного обучения русскому языку как иностранному Института русского языка как иностранного Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). ORCID 0000-0002-0224-2965
в формировании текстовых коммуникативных стратегий [2, с. 76], а Ю.С. Степанов называет эту оппозицию «базовой культурной константой» [7, с. 126].
В работах А.В. Шипилова «чужого» характеризует негативный опыт взаимодействия с ним, а потому все плохое и негативное ассоциируется с образом «чужого», что важно для нашего дальнейшего исследования [13, с. 12]. Таким образом, актуальность дальнейших исследований представленной оппозиции не вызывает сомнений: категории «свой-чужой» являются фундаментальными категориями разных сфер нашего бытия. Особенно четко эта бинарная оппозиция проявляется в некоторых жанрах художественной и публицистической литературы.
Можно отметить достаточную исследованность политического дискурса с точки зрения выстраивания речевой стратегии «мы-они» и, соответственно, «свой-чужой». К религиозному дискурсу обращается Л.Р. Тимохина. В художественной литературе оппозиция «свой-чужой» прослежена в шпионском англоязычном романе на материале ономастики, а к текстам русскоязычных писателей обращались В.В. Соломина и Е.А. Попова, Ю.А. Рамазанова. Несмотря на очевидное наличие той же оппозиции в текстах романов ужаса, последние остаются наименее исследованными в плане лингвистических проявлений категорий «своего» и «чужого».
Новизна проведенного исследования заключается в прослеживании «чужого» как монструозного в романах ужаса и его отражения в лингвистических единицах текста. Целью исследования, таким образом, будет описание лингвистических средств создания «чужого»-монстра в англоязычных романах ужаса. С этой целью для начала обратимся к исследованиям лингвистических средств создания оппозиции «свой-чужой», а затем проследим, используются ли те же средства и в романах ужаса, либо арсенал подобных средств можно дополнить.
Материалы и методы
Методами исследования послужат: анализ литературы по теме, лингвистический анализ художественного текста.
Обратимся к анализу литературы по теме. Как указывает Е.Д. Чулкова, оппозиция «свой-чужой» в шпионском романе проявляет себя на нескольких уровнях: в лексико-грамматических формах, в типе повествования и в стилистических приемах [12, с. 195]. При исследовании религиозного дискурса и проявления в нем оппозиции «свой-чужой» Л.Р. Тимохина на лексическом уровне выделяет следующие средства формирования этих двух категорий: а) использование соответствующих личных местоимений «мы-они»; б) эпитеты; в) лексемы совместимости (не совсем, однако, ясно, что под ними имеется в виду) и принадлежности к «семье» (слова «единоверцы», «братья и сестры», «соотечественники» и др.); г) религиозная лексика и лексика архаичного стиля в обращении к категории «свои» [8, с. 143-144].
В.В. Соломина дополняет исследование оппозиции «свой-чужой» коммуникативными стратегиями отчуждения при построении художественного текста [6, с. 28]. На основе категории «чуждости», выдвинутой А.Б. Пеньковским [3, с. 178-190], Е.А. Попова и Ю.А. Рамазанова пишут о положительных и отрицательных характеристиках (в том числе и эпитетах) в описании «своего» и «чужого», а также о большей индивидуализированности и структурированности категории «своего» в сравнении с «чужим» [4, с. 38]. Таким образом, в художественном тексте «свой» преимущественно герой, от чьего лица ведется повествование, поэтому круг его бытия более описан и структурирован, а «чужой» является непонятным, непознаваемым, а потому опасным, воспринимаемым негативно.
Это как нельзя более применимо к романам ужасов, поскольку, как указывает Д. Хамис, ужас – это нарушение «обычного хода детерминации – определения границ вещей и самого себя» [11, с. 137]. Ужас возникает от невозможности понимания и познания «чужого». Почему в литературе ужасов пугают монстры? По той причине, что они представляют что-то, не поддающееся осмыслению и познанию, это – один из видов «чужого». Наличие монстра, по мнению Н. Кэролла, – это один из жанровых критериев литературы ужасов [16, с. 46].
Обратимся далее к англоязычным романам ужасов, чтобы проследить, как в фигурах монстров там реализуется категория «чужого». Н. Кэролл по поводу фигуры монстра замечает, что его должна характеризовать «категориальная неполнота»: отсутствие в теле важных частей или же невозможность отнести его к уже знакомой категории [16, с. 33]. Отношения между «своим-чужим» – это всегда конфликт, противостояние, что также имеет место в литературе ужаса в отношении монстров. Как пишет Л.Ф. Хабибуллина, «конец ХХ – эпоха осознания значения образа монстра как Чужого, другого в мировой культуре, причем моструозность может транслировать различные виды инаковости, не только гендерной, но и, например, национальной» [10, с. 109].
Результаты и их обсуждение
Далее обратимся к конкретным примерам, чтобы понять, с помощью каких языковых средств реализуется образ монстра в литературе ужасов.
В повести «The Mist» С. Кинга монстры представлены в образах вполне знакомых существ, однако несоразмерно огромных: «The tentacle tapered from a thickness of a foot – the size of a grass snake – at the point where it had wrapped itself around Norm's lower leg to a thickness of maybe four or five feet where it disappeared into the mist. It was slate gray on top, shading to a fleshy pink underneath. And there were rows of suckers on the underside. They were moving and writhing like hundreds of small, puckering mouths». Далее работает гипербола: «I looked over his shoulder and saw more tentacles coming, dozens of them, a forest of them. Most were small but a few were gigantic, as thick as the moss-corseted tree that had been lying across our driveway that morning» [18, с. 41]. Монстр представлен не категориальной неполнотой, но избыточностью частей тела.
Атмосфера страха создается сразу несколькими способами, среди которых важную роль играет неполное описание. Глазами героев мы видим лишь часть монстра. Описание представлено эпитетами с негативной коннотацией и метафорой.
В романе К. Баркера «The Hellbound Heart» образ «чужого» представлен монстрами-сенобитами, описание которых начинается так: «Was it the scars that covered every inch of their bodies, the flesh cosmetically punctured and sliced and infibulated, then dusted down with ash? Was it the smell of vanilla they brought with them, the sweetness of which did little to disguise the stench beneath?» [15, с. 4]. Мы видим акцент на телесности в виде достаточного количества соматизмов – единиц, называющих или описывающих тело, причем это акцент на неполноценности, «разъединенности» телесного пространства: оно разрезано, проколото или сшито.
Кроме того, явно оценочные лексемы disguise и stench подчеркивают восприятие монстров-се-нобитов как отвратительных существ, отличных от человека. На синтаксическом уровне имеется параллелизм: одинаковое начало предложений. Эпитеты также присутствуют в отрывке, связанном с появлением монстров, хоть и не относятся к ним, а скорее к общей атмосфере ужаса: panic-filled darkness, horrid moment, anticipated terror [15, с. 44, 54, 56]. Все они также с негативной коннотацией. Отметим также ономастическую удачу автора. Монстры названы cenobytes, поскольку образуют псевдорелигиозный орден, однако фонетический образ слова вызывает отсылки не к греческому κοινός – «общий», а скорее к ξένος – «чужой, незнакомый», что ярче подчеркивает фундаментальную оппозицию.
Другим достаточно часто встречающимся в литературе ужасов приемом при описании «чужого» является натурализм в описании ужасного. Возьмем для примера следующий отрывок: «Inside was what looked like a huge anemone, its wide base crumpled and folded against the confines of its crate, resting in a thin gruel of blood and gristle. Its body tapered into a stalk, which culminated in a flowering nest of glistening tongues moving like a clutch of worms.” It gets worse and I love it. The carrion angels in this story are also delightfully vile» [14, с. 101]. Заметим, что помимо натурализма в описании монстра есть еще одна интересная деталь: его тело не предстает цельным, что главным образом отличает его от человеческого тела и вызывает чувство ужаса.
Один из наиболее ярких монстров – клоун Пеннивайз из романа С. Кинга «Оно» («It»): «So once again Bill Denbrough found himself racing to beat the devil, only now the devil was a hideously grinning clown whose face sweated white greasepaint, whose mouth curved up in a leering red vampire smile, whose eyes were bright silver coins». Вот другое его описание: «We all float down here, the mummy-clown croaked, and Ben realized with fresh horror that … it was now just below him, reaching up with a dry and twisted hand from which flaps of skin rustled like pennons, a through which bone like yellow ivory showed» [17, с. 506-507]. Через эпитеты hideously, vampire, сравнение flaps of skin rustled like pennons представлен образ этого монстра. Несмотря на улыбку на лице, персонаж пугает, он – «чужой».
Это подчеркнуто и выбором слов: не smiling, а grinning и leering. Имя монстра служит предупреждением, поскольку приводит на ум поговорку «Penny wise, Pound foolish», в смысловом переводе «рисковать большим ради малого». В первой сцене романа мальчик Джорджи оказывается лицом к лицу с адским существом при попытке спасти игрушечный кораблик. Таким образом, ономастика в романах ужаса также работает на создание оппозиции «свой-чужой».
Выводы
Итак, монстры из романов ужаса достаточно убедительно представляют образ опасного «чужого». Образ этот обычно опирается на тот или иной образ реального мира, но характеризуется неполнотой или избыточностью телесных признаков, ощущением разрозненности и нарушенной цельности, что и вызывает чувство ужаса в связи с невозможностью познания «чужого» (см. Д. Хамис). Стилистически описания монстра отличаются использованием эпитетов и лексических единиц с подчеркнуто негативной коннотацией (что подтверждает точку зрения А.В. Шипилова), гиперболизацией, метафорами, обилием соматизмов и натуралистических описаний.
Если, например, в публицистическом дискурсе с помощью местоимений ярко представлена оппозиция «мы-они», то в художественном мире хоррора местоименные оппозиции также встречаются, однако отграничение «чужого» от «своего» происходит и с помощью оценочных наименований или неполного описания (монстр очень часто описывается в той или иной сцене «по частям», как, например, у С. Кинга). Встреча с «чужим» вызывает ощущение страха и ужаса, что на синтаксическом уровне подчеркнуто эллиптическими предложениями и параллелизмом. Смысловую нагрузку часто несут и имена монстров-персонажей.
Таким образом, романы ужаса достаточно ярко представляют культурно-философскую оппозицию «свой-чужой», осмысляя ее в виде конфликта с монстром. При этом, как замечает А. Вдовин, монстр служит метафорическим концептом для осмысления происходящих в мире перемен (в его книге «Монстры у порога» подробно рассмотрены социальные истоки появления в литературе таких монстров как чудовище Франкенштейна и вампир) [1, с. 24]. По этой причине анализ проявлений монструозного как одна из репрезентаций оппозиции «свой-чужой» в новейшей хоррор-литературе будет актуальным направлением дальнейших исследований.
Автор благодарит доктора филологических наук, доцента, заведующую кафедрой английского языка и лингвострановедения Зинаиду Марковну Чемодурову за научное консультирование.