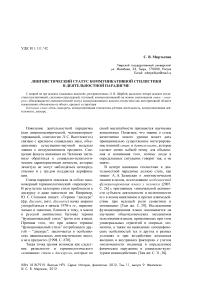Лингвистический статус коммуникативной стилистики в деятельностной парадигме
Автор: Мкртычян Светлана Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Проблемы лингвистической коммуникации
Статья в выпуске: 9 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
С опорой на три аспекта «языковых явлений», разграниченных Л. В. Щербой, выделено четыре аспекта стилистики (когнитивный, системно-структурный, тестовый, коммуникативный) на основе соотношения стиль – языкречь; обосновывается лингвистический статус коммуникативного аспекта стилистики как интегративной области языкознания: обозначены ее объект, предмет и структура
Стиль, язык-речь, коммуникативная стилистика, речевая деятельность, коммуникативная деятельность, дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/14737953
IDR: 14737953 | УДК: 811.111.’42
Текст научной статьи Лингвистический статус коммуникативной стилистики в деятельностной парадигме
Появление деятельностной парадигмы (или антропоцентрической, человекоориентированной, «онтологии Л. С. Выготского») связано с кризисом социальных наук, объединенных естественно-научной моделью знания о неодушевленном предмете. Смещение фокуса внимания на Человека заставило обратиться к социально-психологическим характеристикам личности, которые зачастую не могут наблюдаться непосредственно и с трудом поддаются верификации.
Смена парадигм повлекла за собою закономерный терминологический «переворот». В результате категорию стиля приблизили к дискурсу и даже заместили им. Например, Ю. С. Степанов пишет: «Термин “дискурс” (фр. discours , англ. discourse ) начал широко употребляться в начале 1970-х гг., первоначально в значении, близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин “функциональный стиль” (речи или языка). Причина того, что при живом термине “функциональный стиль” потребовался другой – “дискурс”, заключается в особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете» [1998. С. 670].
Такая точка зрения возникла как следствие размытости и терминологического «слипания» стиля с дискурсом, которые по своей масштабности признаются научными концептами. Полагаем, что знание о стиле качественно нового уровня может дать принципиально существенное интегрирование понятий стиль и деятельность, которое сделает менее зыбкой почву для объяснения и понимания того, почему люди в определенных ситуациях говорят так, а не иначе.
В центре внимания стилистики в деятельностной парадигме должно стать, как пишет А. А. Залевская о лингвистическом знании в целом, исследование особенностей функционирования языка у человека [2007. С. 26] с признанием «изначальной активности субъекта деятельности и включенности его в коммуникативное и прочее взаимодействие при ведущей роли семантики и мотивации» [Там же. С. 29]. Исследование функционирования языка основывается на изучении общечеловеческих механизмов пользования языком, применяемых при этом универсальных стратегий и опорных элементов, а также на выявлении «специфических особенностей тех и других в разных условиях и при воздействии комплекса внешних и внутренних факторов» с учетом «включенности индивида в определенное физическое окружение и социально-культурное взаимодействие» [Там же. С. 31, 36].
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 9: Филология © С. В. Мкртычян, 2012
В задачи данной публикации входит обоснование лингвистического статуса коммуникативной стилистики с позиций деятельностной парадигмы. Такая постановка вопроса требует некоторых терминологических разъяснений, связанных с аспекти-зацией лингвистической категории стиля и, следовательно, с идентификацией соответствующей каждому аспекту области стилистики.
Осознавая терминологическую «безбрежность» категории стиль , обозначим в самом общем виде исходное положение: стиль – это свойство языка-речи , которое эксплицируется за счет манеры ( способа ) употребления языковых / речевых единиц.
Трактовка стиля через язык-речь способна прояснить аспекты стилистики. С этой целью обратимся к классической работе академика Л. В. Щербы «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [2004. С. 24–39].
Как следует из названия работы, Л. В. Щерба выделяет три аспекта языковых явлений: 1) речевую деятельность – «процессы говорения и понимания»; 2) языковой материал – «на языке лингвистов это “тексты”»; 3) языковую систему – «словари и грамматики языков».
Систематизация взаимоотношений между аспектами языковых явлений с последовательным разграничением процесса и продукта предложена А. А. Залевской [1977], которая, конкретизируя перечисленные аспекты, приходит к выводу о том, что Л. В. Щерба фактически ведет речь не о трех, а о четырех аспектах языковых явлений. Подчеркивается, что применительно к речевой деятельности (см. выше) Л. В. Щерба четко разграничил понятия 1) механизма (= речевая организация или «готовность индивида к речи») и 2) процесса (= речевая деятельность ) [Залевская, 2005. С. 89].
Существенно, что в упоминаемой работе Л. В. Щербы речевая деятельность признается «продуктом социальным» [2004. С. 25], а языковой материал – «совокупностью всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы» [Там же. С. 26] (курсив мой. – С. М.). Из этого следует, что процессы производства и понимания речи нельзя рассматривать в отрыве от «коммуникативно- прагматического пространства» (термин И. П. Сусова), или, по Л. В. Щербе, от «определенной конкретной обстановки». При этом аспекты языковых явлений остаются «разными аспектами единственной данной в опыте речевой деятельности» [Там же. С. 26].
Таким образом, в работе Л. В. Щербы речь идет скорее о пяти аспектах языковых явлений: 1) речевая деятельность ( РЕЧЬ 3 ) – «процессы говорения и понимания», включая мотивационную, целевую и исполнительную стороны; 2) речевая организация индивида (готовностью индивида к речи, т. е., по А. А. Залевской, переработка и упорядочение языкового опыта и ЯЗЫК 1 как «система концептов и стратегий пользования ими» [Залевская, 2005. С. 89]); 3) дискурс ( РЕЧЬ 2 ) – процессы производства и понимания речи в «определенной конкретной обстановке» (Л. В. Щерба), в коммуникативно-прагматическом пространстве; 4) языковой материал ( РЕЧЬ 1 ) – «на языке лингвистов это “тексты”»; 5) языковая система ( ЯЗЫК 2 ) – «словари и грамматики языков».
В соответствии с предлагаемым разграничением языка – речи выделим аспекты стиля.
-
1. СТИЛЬ 1 ( когнитивный аспект ) – ЯЗЫК 1 . ЯЗЫК 1 трактуется как система концептов и стратегий пользования ими в процессах говорения и понимания речи. В этом ракурсе стиль может рассматриваться как «когнитивная подпрограмма, обеспечивающая формирование сходных по своим концептуальным характеристикам» [Беляевская, 2010. С. 22] устных и письменных речевых произведений.
-
2. СТИЛЬ 2 ( системно-структурный аспект ) – ЯЗЫК 2 . ЯЗЫК 2 – это «система конструктов и правил их комбинирования» [Залевская, 2005. С. 90], речь идет о системно-структурной (аналитической) стилистике , объектом которой являются языковые единицы, выступающие одновременно маркерами стиля. Разграничение стилистики аналитической (языка) и функциональной (речи) имеет длительную историю в отечественной лингвистике и восходит к учению В. В. Виноградова [1981].
-
3. СТИЛЬ 3 ( текстовый аспект ) – РЕЧЬ 1 . В этом случае РЕЧЬ 1 трактуется как языковой материал, тексты, факты языкового употребления, т. е. стилистика речи, соотно-
симая с функциональной стилистикой (по В. В. Виноградову), где функциональный стиль понимается как «разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-речевой практики людей» [Виноградов, 1981. С. 19].
-
4. СТИЛЬ 4 ( коммуникативный аспект ) – РЕЧЬ 2 , РЕЧЬ 3. Здесь стиль становится объектом коммуникативной стилистики. РЕЧЬ 2 уравнивается с дискурсом, который трактуется нами как коммуникативная деятельность в коммуникативно-прагматическом пространстве. Терминологическая размытость понятия дискурс не позволяет безоговорочно использовать термины дискурсивная стилистика / стилистика дискурса.
Текстовая стилистика может быть сосредоточена на способах структурной организации языковых средств в текстах, на проблемах их композиции и типологии (по В. В. Виноградову и В. В. Одинцову). В таком аспекте к базовым единицам текстовой стилистики следует причислить речевой жанр как «форму структурирования речевой продукции» [Борисова, 2009. С. 33].
Кроме того, здесь же следует рассмотреть соотношение СТИЛЬ – РЕЧЬ 3 , где термин речь используется в том числе в значении превербальный речемыслительный процесс , при этом внимание акцентируется и на внутренней структуре деятельности. Этот подход подтверждает мысль А. А. Шахматова о том, что коммуникация получает свое начало за пределами внутренней речи, а завершается в процессе внутренней речи [1941. С. 20]. На неразделимость речемыслительного и собственно коммуникативного аспектов речевой деятельности обращает внимание А. А. Леонтьев, включая коммуникацию в модель порождения речи [2007. С. 155].
В пользу разграничения текстовой и коммуникативной стилистики свидетельствует глубинное психологическое отличие дискурсивной деятельности от текстовой, которое, по мнению И. Н. Борисовой, кроется в различной установке на результат деятельности и в различной форме существования их продукта. В случае различения текстовой и дискурсивной деятельности возникает необходимость терминологически корректного обозначения их вербального «следа». По отношению к дискурсивной деятельности логично вести речь о продукте дискурсивной деятельности, не предназначенном для сохранения в фиксированном виде, но обладающем свойством быть зафиксированным в специальных исследовательских целях. Акт его отчуждения (письменная фиксация) есть «акт насильственный, искусственный, вырывающий продукт дискурсивной деятельности из естественной среды его функционирования, из контекста жизни, где он предназначен только для непосредственных участников» [Борисова, 2009. С. 139].
Предлагаемая трактовка дискурса как коммуникативной деятельности связана с фокусировкой внимания на собственно коммуникативном аспекте. Широта термина речевая деятельность и его принципиальная возможность стать объектом изучения многих наук превращается в препятствие при решении сугубо лингвистических проблем. Помимо этого, в отечественной психолингвистической традиции данный термин уже «занят», поскольку зачастую используется применительно к моделям процессов речепорождения (рече мыслительной деятельности).
Исходя из сказанного выше, обозначим лингвистический статус коммуникативной стилистики. Ее объектом становится дискурс, предметом – коммуникативный стиль. В этом смысле стиль понимается как типичная / типовая манера коммуникативной деятельности в коммуникативно-прагматическом пространстве , маркированная системой определенных динамических единиц (подробнее см.: [Мкртычян, 2011]). При трактовке дискурса как коммуникативной деятельности в коммуникативно-прагматическом пространстве стилистика приобретает широкую социально-психологическую перспективу. Термин «коммуникативно-прагматическое пространство» предложен И. С. Сусовым и трактуется как совокупность внешних факторов, определяющих поведение носителя языка (перечисление и подробную характеристику каждого из них см.: [Сусов, 2007. С. 37–38]).
Термин поведение не обладает тем широким диапазоном соответствующих дериват-ных и объяснительных возможностей, поскольку не охватывает превербальный этап, при том что именно на превербаль-ном этапе запускаются механизмы потреб-ностно-мотивированного языкового от- бора как манеры коммуникативной деятельности.
Коммуникативная стилистика как интегративная область лингвистики и как вектор перспективного направления стилистических исследований в целом рассматривается в единстве трех взаимосвязанных аспектов: системно-структурного, когнитивного и прагматического, которые, взаимно дополняя друг друга, формируют наше знание о стиле качественно нового уровня.
Задача системно-структурного аспекта состоит в системном описании стилистически маркированных единиц, формирующих стилистическое поле с позиций функциональности дискурса, обусловленного характером деятельности его субъектов (т. е. в первую очередь с учетом социальной стратификации говорящих). По мнению Ю. Н. Караулова, «коммуникативно-прагматическая волна усиливает потенциал системно-структурных исследований, расширяет возможности этого подхода за счет вторжения в сферу социального и социальнопсихологического» [2007. С. 18–19]. Применительно к коммуникативной стилистике жесткая конфронтация по линии «онтология Ньютона» ↔ «онтология Л. С. Выготского» выглядит неконструктивной (о возможностях системно-структурного анализа в новой научной парадигме см.: [Мкртычян, 2010]).
Прагматический аспект фокусируется на коммуникативной эффективности стилистического языкового отбора. Когнитивный аспект связан с когнитивным моделированием процессов и механизмов актуальной речемыслительной деятельности, направленных на осуществление стилистического выбора языковых единиц, в условиях реального взаимодействия.
При этом коммуникативная стилистика образуется не арифметическим сложением своих составляющих, а их последовательным взаимодополнением с целью выявления механизмов действования со словом . Это согласуется с мыслью И. Р. Гальперина о том, что «задачей стилистики в какой-то мере является изучение лингвистическими методами всего процесса коммуникации» [1973. С. 15]. По замечанию Т. Г. Винокур, «идея возможности разных задач и разных масштабов науки о стилях приобретает все большую популярность» [2009. С. 17].
Таким образом, сущность предлагаемого интегративного стилистического подхода видится в изучении деятельностного применения языка в процессе социально-психологически детерминированной речевой деятельности, когда на первый план выходит актуальность мотивировки языкового выбора вместо механического анализа конечного стилистически оформленного вида высказывания.